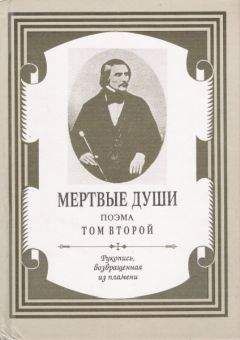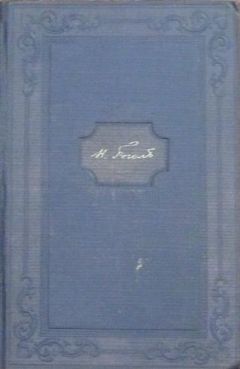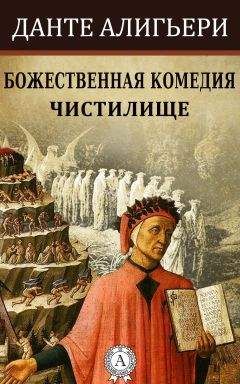Данте Алигьери - Новая жизнь. Божественная комедия
Благороднейшая Донна, о которой здесь повествовалось, снискала себе такое благоволение у народа, что, когда она проходила по улице, люди сбегались, чтобы увидеть ее, вследствие чего дивная радость охватывала меня. И когда она находилась вблизи от кого-нибудь, то столь великое почтение нисходило в его сердце, что он не дерзал ни поднять глаза, ни ответить на ее поклон; и многие, который испытали это, смогли бы служить мне в том свидетелями перед всяким, кто не поверит этому. Так, венчанная и облаченная смирением, проходила она, ничуть не кичась тем, что она видела и слышала. Говорили многие, после того как она проходила: «Это не женщина, но один из прекраснейших ангелов неба». Другие же говорили: «Она — чудо, да будет благословен Господь, имеющий власть творить столь дивно». И казалась она, говорю я, столь благородной и исполненной столь великой прелести, что те, которые видели ее, ощущали в себе сладость такую чистую и нежную, что и выразить ее не могли; и не было никого, кто, видя ее, не вздохнул бы тотчас же поневоле. Такие и еще более дивные вещи происходили под ее благостным действием. И вот, поразмыслив об этом и желая вновь взяться за стиль, дабы хвалить ее, я решил сказать слова, в которых изъяснил бы ее дивное и превосходное действие, чтобы не только те, которые могли воочию видеть ее, но и другие узнали бы о ней то, что можно изъяснить словами. И вот я сочинил сонет, который начинается «Столь благородна…».
Столь благородна, столь скромна бывает
Мадонна, отвечая на поклон,
Что близ нее язык молчит, смущен,
И око к ней подняться не дерзает.
Она идет, восторгам не внимает,
И стан ее смиреньем облачен,
И кажется: от неба низведен
Сей призрак к нам, да чудо здесь являет.
Такой восторг очам она несет,
Что, встретясь с ней, ты обретаешь радость,
Которой непознавший не поймет,
И словно бы от уст ее идет
Любовный дух, лиющий в сердце сладость,
Твердя душе: «Вздохни…» — и воздохнет.
Этот сонет столь легко понять благодаря рассказанному прежде, что нет нужды в каких-либо подразделениях, и поэтому, оставляя его, я говорю, что моя Донна снискала столь великое благоволение, что не только она была чтима и прославлена, но ради нее чтимы и прославлены были многие. И вот я, видя это и желая показать тем, кто этого не видал, решил сказать еще слова, в которых было бы это выражено; и тогда я сочинил этот второй сонет, который рассказывает, как ее благость действовала в других, — как то явствует из его разделения:
Взирает на достойнейшее тот,
Кто на мадонну среди донн взирает, —
В веселии за нею он течет
И Господа за милость восхваляет.
Такую благость взгляд ее лиет,
Что зависти никто из донн не знает,
Но всех она в согласии ведет
И верой и любовью оделяет.
Все перед ней смиренно клонит лик,
Но не себе она тем славу множит,
А каждому награду воздает;
И свет ее деяний столь велик,
Что лишь кому на мысль она придет,
Тот о любви не воздохнуть не может.
В этом сонете три части; в первой я говорю о том, среди каких людей Донна казалась наиболее дивной; во второй — говорю о том, как благотворно было ее общество; в третьей — говорю о тех вещах, которые благостно производила она в других. Вторая часть начинается так: «В веселии за нею…»; третья так: «Такую благость…». Эта последняя часть делится на три: в первой я говорю о том, как под ее действием менялись сами донны; во второй — говорю о том, как под ее действием менялись донны на взгляд других; в третьей — говорю о том, что благостно производила она не только в доннах, но и во всех людях, и не только своим присутствием, но и памятью о себе. Вторая начинается так: «Все перед ней…»; третья так: «И свет ее деяний…».
XXVIIПосле этого стал я однажды размышлять о том, что сказал я о моей Донне — то есть об этих двух написанных выше сонетах; и когда я увидел в моем размышлении, что не я сказал о том, как под ее действием меняюсь я сам, то подумал я, что сказано мною слишком мало. И поэтому я решил сказать слова, в которых поведал бы, как я приуготовлен к действиям ее, а равно о том, как действует на меня ее благость. И, не надеясь, что сумею изложить это с краткостью сонета, я начал тогда канцону, которая начинается «Так длительно…».
Так длительно Любовь меня томила
И подчиняла властности своей,
Что как в былом я трепетал пред ней,
Так ныне сердце сладость полонила.
Пусть гордый дух во мне она сломила,
Пусть стали чувства робче и слабей, —
Все ж на душе так сладостно моей,
Что даже бледность мне чело покрыла.
Поистине любовь так правит мной,
Что вздохи повсеместно бьют тревогу
И кличут на помогу
Мою мадонну, щит и панцирь мой:
Она спешит, и с ней — мое спасенье,
И подлино чудесно то явленье.
«Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua domina gentium».[89] Я был еще за сочинением этой канцоны[90] и окончил написанную выше строфу ее, когда Господь справедливости призвал Благороднейшую славить его под хоругвь благословенной царицы, девы Марии, чье имя было в величайшем почитании в словах блаженной Беатриче. И хотя, быть может, было бы желательно ныне рассказать нечто об ее уходе от нас, однако нет у меня намерения рассказывать здесь об этом по трем причинам: первая — та, что это не относится к настоящему сочинению, — стоит лишь заглянуть во вступление, которое предшествует этой книжице;[91] вторая — та, что, даже если оно и относилось бы к настоящему сочинению, все же язык мой не сумел бы рассказать об этом, как надлежало бы; третья — та, что, даже если бы и было налицо то и другое, не пристало мне рассказывать об этом, потому что, рассказывая, пришлось бы мне восхвалять самого себя,[92] каковая вещь до крайности позорна для того, кто делает ее; и поэтому я оставляю рассказ об этом другому повествователю. Однако так как число девять много раз занимало место среди предшествующих слов (откуда явствует, что то было не без разумного повода) и в уходе ее число это занимает как будто тоже большое место, то следует сказать здесь нечто такое, что, думается, имеет отношение к предмету. Поэтому я и скажу сначала, какое занимало оно место в ее уходе, а затем присоединю к этому некоторые размышления о том, почему это число было ей столь дружественно.
XXIXЯ говорю, что по счислению Аравийскому[93] благодатная ее душа отошла в первом часу девятого дня месяца; по счислению же Сирийскому она отошла в девятом месяце года; ибо первый месяц там — Тисрин первый, который у нас соответствует Октябрю; а по нашему счислению она отошла в том году нашего летосчисления, то есть лет господних, когда совершеннейшее число[94] девять раз повторилось в том столетии, в котором явилась она в этот мир; была же она из христиан тринадцатого столетия.[95] Причиной же тому, что это число было ей столь дружественно, могло бы быть вот что: ввиду того что, согласно с Птолемеем и согласно с христианской истиной, девять существует небес, которые пребывают в движении, и, согласно со всеобщим астрологическим мнением, упомянутые небеса действуют сюда, на землю, по обыкновению своему, в единстве, — то и это число было дружественно ей для того, чтобы показать, что при ее рождении все девять движущихся небес были в совершеннейшем единстве. Такова одна причина этого. Но если рассуждать более тонко и согласно с непреложной истиной, то это число было ею самой;[96] я заключаю по сходству и понимаю это так: число три есть корень девяти, ибо без любого другого числа, само собой, оно становится девятью, как то воочию видим мы; трижды три суть девять. Итак, если три само собой дает девять, а творец чудес сам по себе есть троица, то есть: отец, сын и дух святый, которые суть три и один — то и Донну число девять сопровождало для того, дабы показать, что она была девятью, то есть чудом, которого корень находится лишь в дивной троице. Быть может, для более тонкого человека тут будут видны и еще более тонкие причины, но это есть то, что вижу я и что мне нравится больше.
XXXПосле того как благороднейшая Госпожа отошла от века сего, остался названный город весь словно бы вдовым[97] и лишенным всего достоинства; и вот я, все еще плача в осиротевшем этом городе, написал старейшинам страны[98] нечто о состоянии его, взяв началом слова пророка Иеремии, которые гласят: «Quomodo sedet sola civitas…»[99] Говорю же я это к тому, чтобы иные не удивлялись, отчего привел я его выше как вступление к новому предмету, идущему затем. Если же кто-нибудь захотел бы упрекнуть меня в том, что я не пишу здесь слов, которые следуют за теми, уже приведенными, то оправданием мне служит то, что с самого начала моим замыслом было писать не иначе, как языком народным; вот и вышло бы, что если бы я написал слова, следующие за теми, что приведены, — все латинские, — то было бы это чуждо замыслу моему; подобного же мнения, знаю, держится и мой первый друг, которому я пишу это, то есть что писать это я должен не иначе, как на языке народном.