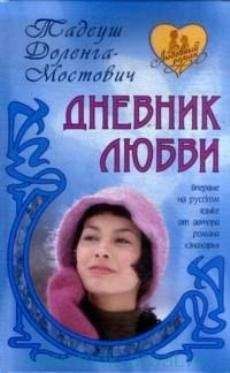Клэр Шеридан - Из Лондона в Москву
22 сентября 1920 года.
Москва. Госпожа Каменева ушла на работу как обычно: в десять часов утра. Полчаса спустя, за завтраком, Лев Борисович, как здесь его называют, пообещал, что не пойдёт на работу и не будет заниматься никакими делами до тех пор, пока не устроит меня на новом месте, в Гостевом Доме. С переездом пришлось задержаться: по неотложному делу к Каменеву пришёл Джон Рид, американский коммунист. Хорошего телосложения, приятной внешности молодой человек, который добровольно покинул свою родину и целиком посвятил себя работе здесь. Я понимаю русскую душу, но что заставило этого с виду нормального парня из Соединённых Штатов так круто изменить свою жизнь? Мне говорили, что его книга «Десять дней, которые потрясли мир» - лучшая книга о революции, её уже зачислили в классику и стали изучать в школе.
На пути нас перехватил художник, назвавшийся Розенфельдом, обутый в парусиновые туфли. Здороваясь, он поцеловал Каменева.
Розенфельд предложил показать мне музеи и другие достопримечательности. Мы могли общаться только по-немецки. К сожалению, его немецкий оказался намного хуже моего, и это очень осложняло наше общение. Наконец, в полдень, мы освободились и начали выносить мои вещи. Я попрощалась с Кремлём, и машина перевезла нас по мосту через реку. На другом берегу, напротив Большого Кремлёвского Дворца, находился Гостевой Дом большевиков. Особняк раньше принадлежал крупному сахарозаводчику.
Сейчас здесь проживают работники Комиссариата Иностранных дел, господин Ротштейн (Rothstein), и американский финансист господин Вандерлип (W.B. Vanderlip) ранее уже бывавший в России.
Мне предоставили шикарную спальню и гардеробную, стены которых обиты зелёной камкой (узорчатым шёлком). Эти комнаты больше напоминают гостиную, чем спальню. После национализации в особняке ничего не стали менять, все вещи остались на своих местах. Здесь смешаны два стиля: современная готика и неоклассицизм. Потолок одного из залов расписан Фламенгом. Но самые дорогие картины (а среди них – три работы Коро) были переданы музею. В таком особняке наслаждаешься комфортом и атмосферой гостеприимства, даже если его убранство не отвечает вашему вкусу.
Рассказывают, что бывший владелец имел другие дома за границей и проводил в Москве всего лишь несколько недель в году. Его состояние было таким огромным, что он, вкладывая свои капиталы за рубежом и не испытывая ни в чём недостатка, тратил крупные средства на украшение своего московского Palazzo.
Один из старых слуг продолжает жить при особняке, обслуживает нынешних гостей, следит за порядком в надежде, что вернётся прежняя власть, а вместе с ней – и старые хозяева. Он открыто говорит, что не является большевиком, и с большим достоинством прислуживает нам за столом и поддерживает наше скромное проживание. Он обращается с нами, как с аристократами, и ожидает от нас поведения, достойного воспитанных леди и джентльменов.
Весь день я занималась тем, что распаковывала вещи и обустраивала моё новое жилище. Каменев обещал зайти, но, видимо, у него не нашлось времени. Однако он позвонил по телефону и сообщил, что за мной заедут и повезут на балет.
В театре мы сидели в ложе для иностранных гостей. Балет назывался «Coppelia». Прекрасная постановка и превосходный оркестр! Театр имеет размеры Ковент-Гарден. Партер окружён ярусами великолепных бордовых с золотом балконов и лож. В зале не было свободных мест. Зрители состояли из трудящихся, которые попали в театр по бесплатным билетам, выданным профсоюзами. Они представляли собой пёструю, буднично одетую толпу. В царской ложе, предназначенной для Комиссаров и их жён, сидел человек в фуражке. В соседней с нами ложе – женщина с повязанной на голове косынкой.
Интересно было наблюдать за атмосферой в зрительном зале. Люди, опираясь локтями на край балконов, замерев, смотрели на сцену. Не слышалось покашливаний и даже вздохов. Только когда Копелия, механическая кукла, ожила, радостно засмеялись дети. По окончании действия зрители повскакивали со своих мест и бросились не к выходу в фойе, а сгрудились в проходах около сцены, чтобы поближе разглядеть артистов и похлопать им. Эти люди, проработавшие весь день, получили большое удовольствие от спектакля и давали полную волю переполнявшим их чувствам.
Единственное недоразумение, которое несколько омрачило мне вечер, возникло из-за миниатюрной стенографистки из Комиссариата Иностранных дел, сидевшей вместе с нами в ложе. Она обратила внимание, что на мне был приколот значок в виде звезды, а на руках надеты белые перчатки. Эти предметы, заметила эта особа, несовместимы: белые перчатки носят только буржуи. Я стала возражать, что решающее значение имеет не то, что у меня надето на руки, а то, что у меня в сердце. Но это её не убедило, и чтобы не раздувать ссору, я сняла перчатки. Учитывая, что на мне была красная юбка из твида, красного цвета вязаная кофта и плотно облегающая голову шляпка, я не думала, что белые перчатки придают мне вызывающий вид.
Получив огромное удовольствие от спектакля, мне, тем не менее, пришлось вытерпеть удушливый запах, возникший в результате большого скопления немытых тел. Это не удивительно: в стране нет мыла, и большинство людей года по два, не меняя, ходят в одной и то же одежде.
Из театра я ехала в одной машине с господином Ротштейном. Я хотела припомнить хоть какие-нибудь критические статьи о нём, которые мне встречались в английской прессе, но я только смогла вспомнить, что ему запретили вернуться в Англию. Он производит впечатление энергичного и сильного человека. Думаю, он очень умён. Мы вместе поужинали. Наш разговор постепенно перешёл на скользкую тему: национализация женщин. Я непроизвольно заметила, что это явление нанесло самый сильный ущерб большевизму, а серьёзные люди на Западе продолжают верить этой нелепице. Господин Ротштейн несколько грубо перебил меня: «Вероятно, вы имеете в виду тот ограниченный круг людей, которые читают Morning Post?». Неужели он прав, думала я. И этот «ограниченный круг людей», к мнению которых я прислушивалась всю жизнь, совсем не в счёт?
23 сентября 1920 года.
Четверг. Москва. Утром я потратила много времени на организационные вопросы, не прибегая к помощи Каменева. Как выяснилось позже, в этом не было необходимости. Джон Рид говорил, что я не могу приступить к работе, пока не обеспечу себя всем самым необходимым. При этом я должна рассчитывать только на себя, а не перекладывать ответственность на кого-то другого. С другой стороны, господин Вандерлип советовал мне сохранить выдержку и спокойно ожидать наступления подходящего момента. Однако, испытывая нетерпение, я заполучила себе в помощники господина Розенфельда, который неожиданно приехал на машине с Александром Каменевым. Розенфельд любезно вызвался сопровождать меня в поисках подходящего помещения для студии. Художественная школа находилась довольно далеко, и, хотя её сотрудники проявили интерес, но они почти ничего не могли мне предложить. В Академии Художеств, которая, как я поняла, только что заново открылась, в одной из галерей нашлось место для работы, но оно меня не устроило. Мы побывали в Строгановском училище, где господин Коненков, выдающийся русский скульптор, предложил посмотреть одно из помещений.
Помещение напоминало пустую кухню, выходившее окнами на безликий задний двор. Два сопровождавших нас студента не проявили большого интереса к моей затее. Подумать только, вероятно, думали они, приехать в Россию в надежде, что сам Ленин будет ей позировать! Было очевидно, что они не верили в такую перспективу. Каменев предупредил меня, что большинство художников, с которыми мне предстоит общаться, не являются большевиками. Вероятно, что студенты принадлежали к этой категории людей и отнеслись ко мне соответственно. Одна студентка оказалась приветливее остальных и обратилась ко мне на французском языке: «Если у вас такие высокопоставленные друзья, пусть они позаботятся о вашем питании. Ведь мы здесь проводим весь день, с девяти утра до шести вечера, и ничего не едим». Я спросила, почему она не приносит еду с собой, и получила ошеломляющий ответ. Оказывается, существует жёсткий государственный контроль по распределению продовольствия, и продовольственных магазинов вообще нет. Я так была потрясена, что не стала задавать больше вопросов. Ясно, что я понятия не имею о том, что происходит, и выгляжу в их глазах достаточно глупо. Другой студент сказал: «Мадам, мы живём надеждой, что всё перемениться. Мы ждём уже два года. Не знаем, когда это произойдёт, только верим, что проснёмся однажды утром, и весь этот кошмар закончится!». Я попыталась возразить и напомнила, что были шесть лет войны война, потом блокада, но чувствовала, что не имею права оправдывать перед ними сложившуюся ситуацию.