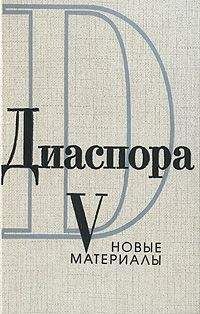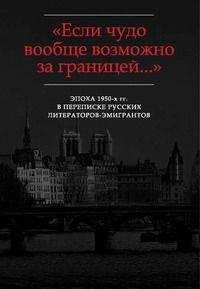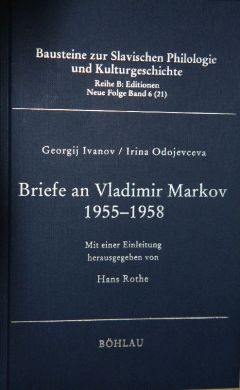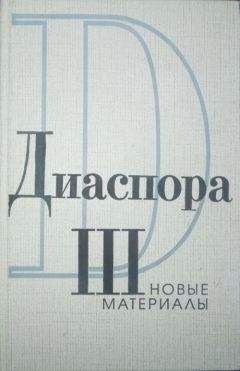Георгий Адамович - Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г.В. Адамовича И.В. Одоевцевой и Г.В. Иванову (1955-1958)
От Ninon — ни слова. Я даже обеспокоен. В конце марта я собираюсь в Париж. Поговорить было бы много о чем — о любви, об уходящей и неиссякающей молодости, descente de lit и всем прочем, chere Madame — но отложим до радостного свидания. Только когда? Я сейчас все читаю Леонтьева и восхищаюсь, что это за замечательный писатель (но не романы). А вот Щедрин скорей г…о (пардон!). До свидания, голубой и дальний друг (я когда-то, кстати, сказал Вам, что самое большое несчастие для человека было бы в Вас влюбиться, и продолжаю это думать). Поцелуйте Жоржа и скажите ему главное, чтобы приободрился. Все болезни на 1/4 физические, на 3/4 — духовные неполадки.
Ваш Г. А.
23. Г.В. Адамович — И.В. Одоевцевой
Manchester
9/III-57
Дорогой и бесценный друг, chere Madame Иногда люди дружатся и даже влюбляются по письмам, как Чайковский и Mme Мекк[203]. Но хотя мы с Вами пребываем в дружбе давно, хоть и с перерывами, я ощутил прилив нежности, получив сейчас Ваше письмо, во-первых, — литературно: не то Пушкин, не то сюрреалисты, а во-вторых, — по смятению всех чувств, что я сейчас особенно понимаю и разделяю. Да, Алданов. И верно Вы пишете — «passons»[204], п<отому> что лепетать что-то можно в газетах, а так — не стоит[205]. Для меня это большое потрясение, и даже я не согласен, что в нем было что-то «ридикюльное», как Вы пишете и как все считали. Нет, было другое, скорее жалкое. Но еще раз — passons. Я бы лично не хотел так умереть, с папироской в руках, а хотел бы подумать раньше: что это все было?[206]
А вот о том, что влюбиться в Вас — великое несчастие, Вы не так поняли, и если окажется не столь лестно, то извиняюсь. Вот что я думал: у Вас от природы — великий дар забывать. Вы можете уверять человека в вечной любви, и он поверит в вечную любовь, а Вы через неделю даже забудете, о чем ему говорили и как «блестели глазами», вроде Анны Карениной. Это я в Вас понял с первых лет. Это то, что делает Вас femme fatale[207], хотя Вы от этого стиля (скорей Дианы Карэн, чем Анны Кар<енин>ой), к счастью, крайне далеки по врожденному вкусу. Ну, тоже passons.
Еще я очень рад, что Вы оценили стишок Мандельштама[208]. Я его получил недавно и случайно, а еще до этого думал: «а может быть, подделка?» Но это — не подделка, а прелесть и чистейший Мандельштам, чего дураки не понимают. Что же до Вейдле, вас восхитившего, то он, действительно, недурен, хотя уж очень свысока-наставителен. А чтобы оценить, что за перо у этого человека, прочтите последнюю фразу (10 строк) на стр. 43[209]. Пожалуйста, прочтите вслух — себе и Жоржу, дабы насладиться стилем. Мне, между прочим, претит, что в «Опытах» слишком много обо мне[210]. Хотя я и великий писатель, но это смешно и глупо, верьте мне или не верьте. Могу поклясться, что не сочиняю. Померанцева я не обижал, а написал в «Н<овом> р<усском> с<лове>» статью[211] (я ее еще не видел, — разве уже напечатали?) по поводу его стишков в «Р<усской> мысли» с призывом писать только о бомбах и великих событиях. Ничего обидного в статье не было, — кроме, пожалуй, слова «демагогия». Но и это пустяк. Померанцев мне скорей приятен, ну, а остальное — сами понимаете.
Да, Madame, сказать ничего нельзя, и только с такими людьми говорить стоит, кои это знают и чувствуют. Вольская умолкла, даже до неприличья. Было «креол, креол!», а теперь, как ее разобрало, ни слова. Чем она наглупила? Я писал о ней Водову, с которым она говорит по телефону, и советовал, что сделать для комнаты.
Шлю Вам самые нежнейшие чувства, обоим. Не скучайте, ибо скучно везде. И, пожалуйста, пишите. Я после 22–23 буду, вероятно, в Париже (т. е., вероятно, — если не случится непредвиденного) до Пасхи или чуть больше.
Ваш Г. А.
24. Г.В. Адамович — И.В. Одоевцевой
7, rue Frederic Bastiat Paris 8 8/IV-57
Дорогая Madame и друг бесценный!
Получил Ваше письмецо — с удивлением, что я не пишу. Во-первых, в вихре света писать трудно, а во-вторых, вихрь был до сих пор не интересный, и писать было не о чем, кроме чувств и мыслей. Но об этом лучше писать из Англии.
Сначала о делах.
Леонидова я до сих пор не мог добиться. Он, по-видимому, ошалел от Legion d’Honneur[212] (поздравили Вы его?), куда-то уезжал, был неуловим. Наконец, вчера я говорил с ним по телефону и условился о свидании на четверг. Сделаю все, что могу, буду persuasif[213], сколько могу, и сейчас же отпишу, что и как. Что выйдет, не знаю, но постараюсь, чтобы вышло хоть что-нибудь. Кстати, Жорж соизволил сделать приписку на Вашем предыдущем письме, приведшую меня в гнев, ярость и возмущение: Pour une fois[214] сделай для меня что-нибудь конкретное». «Выходит, значит, соловья баснями не кормят» или что-то вроде. Но сделать что-нибудь «конкретное» насчет комнаты в Cormeilles мог бы только Господь Бог, а со сбором денег у меня тоже возможностей мало, а главное, я бездарен, как пень, в этом смысле. Тут надо бы быть Роговским[215] или хотя бы Рогнедовым[216]. Ну, passons, не стоит об этом говорить.
Я был в первый же день приезда на панихиде по Вольской на rue Daru. Ляля страшно расстроена, что неожиданно. Но напрасно она написала в faire-part: «dans la 6-eme annee»![217] Бедная Ninon была бы возмущена. Зачем было это оповещать? Кого я вообще видел? Всех понемножку, но все какие-то кислые. Бахрах, друг моего сердца, как Вы, верно, знаете, отбыл в Мюнхен[218], Лида стала на 9/10 несносна из-за претензий и обид на весь мир, Маковский все тот же старый хрыч и еще поглупел, по-моему. От Оцупа — ни слова ни у кого, но я жду грозы и выговора с высоты Синая. Да, попросите, пожалуйста, Вашего друга Померанцева прислать Вам статейку «Опять о поэзии», если Вы ее еще не читали: там есть пассаж обо мне. Я был глубоко изумлен, т. к. cela frise 1е[219] хамство, и даже больше, чем frise. Это не полемика, а черт знает что по тону. Я его, кстати, встретил у Неточки третьего дня и сказал ему, что если не обижаюсь, то только по своей беспредельной лености. Он замахал руками и что-то стал объяснять, считая, что в статье в «Опытах»[220] я его страшно оскорбил, не называя его, но определенно на него намекая. Ля даже забыл о его существовании, когда писал эту статью! Ну, passons, тоже. Скучно жить на свете, господа, и, в сущности, мне давно все все равно, совсем.
Вот «descente de lit» — еще не совсем все равно. Но моя последняя lis d’ete[221] только что известила меня, что не приедет, ибо военные власти не пускают. Оно, м. 6., и лучше, т. к. надо вести при ней сверх-роскошный train[222] жизни, а, господин Мандельштам, это вам не по средствам. Съездил в Enghie, выиграл 4 т<ысячи>, а больше ездить боюсь, мало капиталу. Еще видел старика Гласберга[223] (у масонов), который с Вами будто бы играл в винт. Все бывает на свете. Он хоть и развалина, но страшный донжуан, и при очередном его винте советую вступить с ним во флирт для всяческих протекций. Восхищался лекцией какого-то прокурора, — это Ваш, который <строчка не читается>.
Ну, дорогая душка, до свидания. Я на старости стал болтлив, начну писать, не могу кончить. Напишу, значит, в пятницу, после Леонидова. Обнимаю и целую обоих и желаю всего.
Ваш Г. А.
25. Г.В. Адамович — И.В. Одоевцевой
7, rue Frederic Bastiat Paris 8 12/IV-57
Дорогая Madame
Ну, вот — был вчера у Леонидова. О спектакле, как о «прыгать», нет речи. Он не может (или не хочет) ничего устроить. Предложил мысль идиотскую: сделать спектакль русских писателей, т. е. чтобы играли писатели. Vous voyez cela![224] Как бы это все блестяще прошло, какой был бы сбор. Я просил его о другом: у него бывают известные артисты в его бюро, пусть бы он с каждого что-нибудь брал pour un grand poete russe[225]. Но тут он скис — «неудобно» и т. д. В конце концов вот что он предложил: с какими-то своими друзьями «в складчину» он дает 30 000 фр<анков> — и Вам их пошлет. Я спросил: верно ли это совсем, могу ли я Вас об этом известить. «Да, абсолютно верно, можете Иванову написать». Когда пошлет? В течение ближайших двух недель, через меня — или через Померанцева, если меня уже не будет в Париже. Вы, верно, надеялись на большее, но и это некий капиталец, и я рад, что вышло хоть это. У меня было опасение, что, кроме слов и советов, ничего не будет. Он в полном литер<атурном> преклонении перед Вами обоими (о Вас — очень смешно: перескажу при радостном свидании), но тут же говорит: «А Сергей Горный![226] Какой алмазный талант!» Et ainsi de suite. Оказывается, он с Вами не знаком, а я думал, что Вы у него бывали. В понедельник его чествование[227], по поводу Legion, я должен пойти, косвенно им облагодетельствованный, хоть и не для себя. Когда получите деньги, напишите (т. е. Жорж) ему трогательное письмо.
Сейчас получил от Кантора «Р<усскую> мысль» с Оцупом о Достоевском и обо мне[228]. Какие высоты, какой пророческий тон. «Мое водительство…» — читали Вы это? Между прочим, я написал о том, что его статья написана с «синайских высот», а он сказал Водову, что это намек на его еврейское происхождение. Даже Водов изумился такой догадливости! Я продолжаю вертеться в сливках, сегодня обедаю у Вашего друга Рабиновича с дурой-Лидой[229]. До свидания, cherie et tant chere[230], а также Жорж, несмотря на его дерзкие шпильки. Напишите мне еще в Париж, непременно, я здесь еще дней 10.