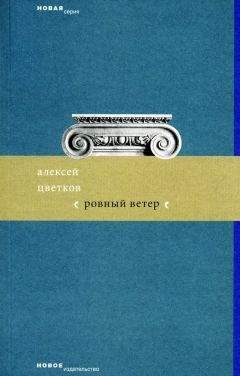Gradinarov - Synovya
– Фёдор Богданович, у вас исчезла уверенность, которой вы вчера щеголяли передо мной?
Академик перестал жевать, задумался:
– Вы правы, Мария Николаевна! Я сегодня потерял уверенность. Завтра у вас встреча состоится. Но с товарищем министра. Сам министр уезжает на две недели в Ревель. Этим я и огорчён, принёс вам неприятную весть.
– Да полно, Фёдор Богданович, я рада завтрашней встрече! Пусть даже товарищ министра. С глазу на глаз выясню ситуацию. Есть ли хоть маленькая возможность уменьшить срок ссылки на пять лет. Если он скажет, что есть, я пойду на аудиенцию к государю. Разобьюсь, но добьюсь приёма с царём Александром.
Ночью она плохо спала. Ей мерещилось, что ехала в министерство внутренних дел на извозчике и случилась уличная авария. У её тарантаса сломалась ось. Она металась от одного к другому извозчику. Но никто не брал. Все куда-то спешили, зло взмахивали кнутами и пускали лошадей вскачь. Одна-одиношенька осталась она среди пустынной улицы и поняла, что уже опоздала. Проснулась в холодном поту, выглянула в окошко. За окном ночь. «Значит, это не явь, а сон», – обрадовалась женщина и снова легла в постель. Ворочалась с боку на бок, ложилась на спину, вставала, зажигала керосиновую лампу и снова лежала, глядя в лепной потолок. «Неужели я ничего не выхожу для любимого и его друга?» – терзал её вопрос. И она не находило ответа. Боялась и собственной неуверенности, и самоуверенности. Итог зависел от обстоятельств и от людей, которые руководствовались не чувствами, а законами. Тем более, для них политические преступники – погубители России. А чиновники министерства сильно любили Россию и не любили Польшу.
На удивление Марии Николаевны товарищ министра отнёсся к ней весьма благосклонно. А может, ей показалось. Но он при ней надевал на переносицу несколько раз пенсне, чтобы прочитать важные, на его взгляд, строки из прошений.
– Мария Николаевна, есть маленький шанс добиться досрочного освобождения ваших друзей из ссылки. Но это компетенция министра. Тем более, что у них в поручителях такой уважаемый правительством человек, как Фёдор Богданович Шмидт. Дерзайте! – посоветовал товарищ министра. – А чтобы вы смогли добиться своего, то на приём к министру идите со Шмидтом и вторым поручителем. Как его? – Он начал копаться в бумагах. – Ага, вот он! Кривошапкин. Так вот, возьмите обоих поручителей – и к министру! Попытайтесь втроём доказать ему необходимость скощения срока ссылки.
– Благодарю вас, господин товарищ министра, за совет. Мне только не совсем понятно, почему четыре года активной переписки с местной и столичной властями заканчивались бюрократическими отписками сухим канцелярским языком. Неужели бездушие заполонило канцелярии власти?
– Знаете, госпожа Цыбульская, люди у нас разные. У многих под чиновничьими сюртуками души нет. А это для России страшнее политссыльных. Желаю удачи!
Через день, посоветовавшись со Шмидтом, Мария Николаевна телеграфировала Кривошапкину в Казань просьбу срочно прибыть в Санкт-Петербург по делу ссыльных. Михаил Фомич не заставил себя долго ждать. На одиннадцатый день он прибыл в Санкт-Петербург прямо в дом Фёдора Богдановича Шмидта. А через неделю они оказались в кабинете у министра внутренних дел, который лично знал академика. Поздоровался за руку с вошедшими учеными, а Марии Николаевне поцеловал.
– Никогда не думал, что и академики сутяжничают, дорогой Фёдор Богданович! Или время некуда девать? – засмеялся министр.
– Да вот пришлось, господин министр! Прошу помочь двум полякам, попавшим по молодости в большую беду. – попросил академик. – Они уже всё осознали. Поняли, что патриотизм – не только отстаивание с оружием своей Польши. Любить родину можно и в рамках закона без ружейной стрельбы и рубки саблями.
– Я знаю суть этого дела. Переписка идёт четыре года. У нас таких просьб тысячи. Не успеваем своевременно отказывать. Ведь только по Польскому восстанию осуждено более восемнадцати тысяч человек. Массовый патриотический психоз втянул многих молодых людей того времени в ненужное противостояние с властью. Теперь их лучшие молодые годы проходят на каторгах да в ссылках. Сосланы двадцатилетними, а вернутся домой в сорок пять, пятьдесят. А жизнь-то одна! Я дам согласие на сокращение срока ссылки до семнадцати лет. Меньше не имею права. Это прерогатива государя. Стало быть, при благоприятных стечениях обстоятельств, ваши друзья будут освобождены 1 июля 1880 года. Только прошу госпожу Марию получить копии необходимых документов у нас в канцелярии самолично. Пока, к сожалению, почтовые станции нередко теряют документы.
Он поднялся, дал понять, разговор окончен. Министр вышел из-за стола, пожал руки и пожелал, чтобы гости больше не приходили с подобными прошениями.
– С одним полиберальничай, скости ссылку. И пойдут тысячи ходатаев и ходатайств. А законы нарушать я не имею права! – развёл он руками. – Будьте здоровы, господа!
Мария Николаевна, возвращаясь из Санкт-Петербурга, заехала к матери в Томск и присмотрела в городе дом, сложенный из кирпича, с двускатной железной крышей, с четырьмя водосточными трубами и небольшим парадным подъездом. В доме три комнаты, кухня и чулан. Поторговалась со старой купчихой и купила его для будущей жизни. Наняла сторожа, чтобы присматривал за домом до их приезда. До конца ссылки оставалось два года. Вскоре она родила белоголовую дочь, названную Зосей.
*
Теперь жили и считали дни до окончания ссылки. Збигнев с Сигизмундом чаще ходили на охоту и рыбалку, приносили добычу и стали сдавать Петру Михайловичу добротный песцовый мех в обмен на муку, чай, сахар. Порох и свинец они брали в складочном магазине, который остался от Киприяна Михайловича Сотникова. Теперь смотрителем магазина служил Мотюмяку Евфимович Хвостов.
Збигнев с Марией Николаевной и маленькой Зосей решили после ссылки осесть в Томске. Звали с собой Сигизмунда. Но он задумал, прежде всего, съездить в Польшу, навестить старушку мать, а уж потом выбрать место, где доживать век. К нему в гости лет пять назад приезжала бывшая невеста Ядвига. После его ареста и ссылки она вышла замуж за молодого помещика. Десять лет прожила с ним в мире и согласии, а потом поняла, что не может без своей первой любви. Стала писать ему безответные письма, клялась в верности, в готовности, хоть сейчас, соединится брачными узами. Но Сигизмунд молчал. Тогда она пришла к его матери и сказала, что собирается ехать в Дудинское. Мать уговаривала отказаться от затеи:
– Ядя! Дорога долгая и тяжёлая. Только на неё уйдёт не менее полугода. Ты знаешь характер Сигизмунда. Он никогда не простит тебе предательства. А ссылка, видно, ещё ожесточила его сердце. Я не могу благословить тебя на эту безуспешную поездку.
Но Ядвига упорствовала. «Доберусь до него или нет, но зато посмотрю и Россию, и Сибирь», – взвешивала она «за» и «против». Из Кракова на тарантасе доехала до Варшавы, взяла билет на поезд до Бреста, а потом и до самой Москвы.
Через месяц она добралась поездом до Уральска, а затем до Енисейска – в кибитке. Остановилась в гостинице и стала ждать вскрытия Енисея, чтобы пароходом плыть в Дудинское. Встречала из Туруханска обозы с рыбой, расспрашивала кучеров о Дудинском. Те в ответ говорили:
– Мы, пани, дальше Туруханска не ходим. Возим рыбу с Дудинского участка. Но в самом станке не бываем. Поищите сотниковских приказчиков. Они здесь товарами запасаются для навигации. Может, кого-нибудь и встретите.
Не повезло Ядвиге. Видно, приказчики в ту пору были в Минусинске или в Томске. Ехать же на почтовых лошадях до Туруханска, а там до Дудинского на оленьих упряжках она не решилась. Да и люди советовали дождаться парохода. Письмо Сигизмунду она отправила почтой, сообщив, что прибудет по высокой воде.
Сигизмунд встретил Ядвигу холодно. Он даже не прикоснулся к ней, хотя она на коленях просила прощения.
– Я презираю тебя, Ядя! У тебя не было любви! У тебя была увлечённость! Короткая, холодная, как северное лето! – упрекнул Сигизмунд. – Ты не выдержала испытания разлукой! Потому всё, что случилось, логично. Ты лишила себя счастья быть любимой. Что бы ни случилось, я вернусь в Польшу через пять или десять лет. Женюсь или нет, знает только Бог. Ты разуверила меня в женщинах. На каждую я буду смотреть сквозь тебя, вешать на них твой ярлык измены. Русские женщины другие. Они преданы любви, как Мария Николаевна. Она ради Збигнева сама ушла в неволю, хотя могла по-другому устроить свою жизнь. У меня больше нет желания видеть тебя. Предательство страшнее каторги.
Он не слушал её оправданий. Проводил на пароход и даже не стал ждать его отхода. Единственный раз взглянул в окошко на судно, когда оно выходило из устья Дудинки на стрежень Енисея.
*
Покидали ссыльные Дудинское со светлой грустью на лицах. Их провожал Мотюмяку Евфимович Хвостов. Долго стояли у ряжевого причала, будто опасались взойти на пароход. Не верилось, что навсегда покидают низовье, что больше никогда их ноги не ступят на таймырскую землю. Хотелось запомнить всякую мелочь последнего дня, отложить в памяти и этот зелёный берег, и этот причал, и их осиротевший домик, и позолоту церковных куполов, и вырастающий из воды Кабацкий, и многое другое, что связывало их долгие годы жизни. Хотелось запомнить и плачущего Хвостова. Они ощутили даже какой-то страх перед появившейся свободой. Из оцепенения вывел зычный голос Гаврилы-шкипера: