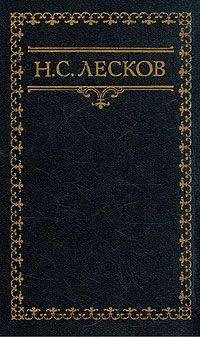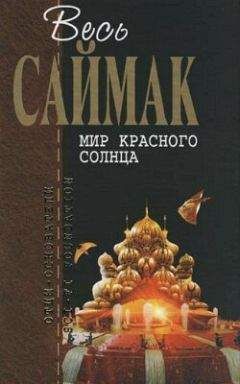Неизвестно - Улащик

Обзор книги Неизвестно - Улащик
Николай Улащик
Мариинск - Суслово
Сентябрь 1933 г. Едем в Сибирь, в Сибирские лагеря. Говорят, что в Мариинск. Где это находится, не имею понятия. Но в общем ничего. Казалось, могло быть хуже. При переезде на лошадях из Нолинска в Вятку схватил воспаление легких, но за два дня пребывания в теплой "внутренней" в Вятке отошел. В июне начал распухать подбородок. Это следы туберкулеза желез, залеченных в 1926 г. в Минске. После голодовки и скандальных переговоров с комендантом получил двухчасовую прогулку каждый день. Это было совершенно удивительно: комендант не только пообещал, но и дал такую прогулку. Я выходил один и лежал на траве, закинув голову и подставив свой подбородок солнцу. Как-то получилось так, что стал чувствовать себя лучше. Затем объявили приговор: на оставшийся срок в Сибирские лагеря. Можно было ждать худшего. Оказалось, что нужно отбыть 22 месяца. Потом и эти месяцы показались ах, какими длинными, но сперва представлялось, что можно вытянуть. В вонючей Вятской тюрьме хлеба давали 300 г и больше в сущности ничего: пол-литра супа, в котором кроме воды ничего не было, и вечером ложка пшенной каши. Началась цинга. В Вятке я увидел, что бывает от цинги (человек передвигался на двух руках, на локтях и одном колене, другая нога как-то тянулась по полу). Опасаясь таких же последствий стал усиленно натирать десна солью, делать гимнастику, почаще мыться. Соленой воды не пил и раньше. Это помогло. Верхние десна, которые приобрели вид гнилого мяса и отваливались кусочками, стали краснеть, становиться нормальными.
Наконец, - «Давай с вещами!". В купе (столыпинского вагона) важно попасть первым или в числе первых. Тогда можно вскарабкаться на верхнюю полку и лежать там одному, последних же конвой подбодряет сапогами или прикладами. Один раз в купе находился 21 человек. Это предел, но и пятнадцати достаточно, чтобы нельзя было повернуться. Здесь попадаю первым и тотчас залезаю на верхнюю полку, против меня на верхней оказывается совсем молодой парень с очень противным лицом, как бы сделанным из пня. Позже выясняется, что он убил жену и тещу, но так как тогда ему не было и 18 лет, то расстрел заменили 10 годами.
Публика в купе разная. Среди них выделяется Володя Субботин, оренбургский казак. Это студент Ленинградского медицинского института, не успевший сдать 1-2 экзамена. Он среднего роста, фигура атлетическая, курчавые русые волосы и улыбающееся лицо. Все зовут его Володей и даже мой сосед, который, растягивая «а», тянет "Ваалодя". Переболев в Мариинске тифом, Володя оказался инвалидом: сдало сердце. Едут и два топографа, одному дали 5 лет, другому 10. В те времена срок в 10 лет казался ужасным, бесконечным. Спустя 20 лет десять едва не называли "малым сроком", а настоящим - числилось 25. Когда ехал той же дорогой в 1951 г., конвой любил делать такие трюки: запускал в купе одного или двух бандитов, которые начинали потрошить небандитов, вернее потрошить их вещи, отбирая, что получше. На станциях конвой выменивал барахло на водку. На каком-то перегоне наш начальник еле стоял на ногах, часть водки перепадала, конечно, и бандитам. В 1933 г. ничего такого не случилось, и мы мирно катили дальше и дальше на восток.
Люди, бывавшие в лагерях, рассказывали неопытным, что нас ждет. Как только прибудем в лагерь, нас накормят и дадут дня два или больше отдыхать. Ведь мы сейчас и не работники. Все такие вымотанные, дохлые. Когда отлежимся, станут разбирать по специальностям: кто слесарь, кто столяр, а Вас, ученых, заберут на канцелярскую работу. Слушаем, верится не очень. Приходилось ведь слышать что-то совсем иное.
Наконец, приезжаем в Мариинск. Прямо перед нами, метров за 300, тяжелое громадное здание тюрьмы, построенное еще при царизме. Недалеко от него новое двухэтажное деревянное. Это оказалось здание управления Сибирских лагерей. День хороший, солнечный. Разминаемся, ждем отдыха и прежде всего кормежки. Голодны все зверски. Приводят в чисто вымытый барак со сплошными двухэтажными нарами. Залезаю наверх.
Через короткое время подается каша, почти густая гречневая, даже чем-то сдобренная каша. Нас разбивают по 8 человек и на всех приносят таз (у кого какой, но у всех давным-давно немытый) каши. Я черпанул полную ложку, но когда сунулся во второй раз, то таз был почти пустой, но вокруг него валиком лежала на нарах каша. Озверевшие люди глотали горячую прямо с огня кашу, давились и вновь глотали, а ту, которую раскидали около таза, запихивали в рот руками. Если бы каждому выдали его порцию отдельно, то получилось бы какое-то питание, так как на душу приходилось видимо раз в десять больше, чем в тюрьме, но при общественном питании не насытился никто. В лагере, конечно, были и миски и ложки на всех, но, как везде, всем на все было наплевать.
После такого ужина и проверки, когда нас считали раз десять, можно было лечь и отдохнуть от вагонной толчеи и качки. Два дня будем отдыхать, а потом будет видно. Однако через каких-то полчаса явились надзиратели и начали вызывать добровольцев: кто пойдет на станцию на погрузку картошки (часа на два), тот получит дополнительную порцию каши. Ну, кто? Ну, кто? Целую миску каши. Добровольцев не оказалось ни одного. Надзиратели стали повышать голос, выкрикивая призыв, но затем, видя бесполезность этого, перешли к более действенным мерам.
«Так вы думаете, что приехали на курорт, что с вами тут будут возиться!». Припоминая всех родных заключенных, надзиратель ухватил первые, ближайшие к нему ноги лежавшего з/к и потащил его с нар. Другие стали тащить соседних. Завидя это, лежавшие зашевелились, стали соскакивать с нар. Разъяренное лицо другого надзирателя перекосилось от возмущения. «А вы чего лежите? Вас тоже надо тащить за ноги на пол!?» Поднялись и мы. Картошку из буртов насыпали в мешки, носили и сыпали в вагоны. Часа в два ночи пришли в барак, действительно получили каши, на этот раз как-то более по-человечески, и легли спать.
До предела умотанный, я уснул, но тут же проснулся от каких- то уколов. Лампа была сильная и хорошо освещала спавших. Я взглянул на свою подушонку. По ней бегало не меньше десятка весьма резвых клопов. Я встряхнул подушку, но как только положил ее на место, откуда-то выскочили десятки тощих рыжих кровопийц. Глянул на соседей. Их лица прямо облеплены клопами, но спят почти все. Кто-то вскрикивает, кто-то ворочается. В нарах, видимо, были прямо-таки сотни тысяч паразитов. Как ни был утомлен, я слез с нар, присел у стола и задремал там.
Почему Мариинск, захудалый городишко, раскинувшийся на совершенно ровной, даже немного болотистой местности, стал столицей Сибирских лагерей (в этом звании он, возможно, числится и сейчас)? Когда начали создавать лагеря в Сибири, не было еще ни Колымы, ни Норильска, ни других знаменитых впоследствии лагерей. Большие города (Омск, Новосибирск, Красноярск) едва ли были удобны как центры распределения лагерников, поэтому и выбрали заплеванный Мариинск, не предвидя грандиозного роста лагерей в дальнейшем. Кроме того, в Мариинске находилась огромная тюрьма, так что на первое время можно было, куда поместить, и легко было караулить прибывающих лагерников. Для управления же было построено специальное двухэтажное здание. Перед этим зданием часто виден был фаэтон, запряженный гнедым раскормленным жеребцом. По коридорам Управления ходили шикарные дамы в модных тогда длинных платьях, немало работало там и специалистов из з/к высокой квалификации - главным образом инженеров и бухгалтеров.
Дорогой бывшие лагерники рассказывали и о том, как отбирают специалистов. Потом я это увидел и своими глазами. Произведя первоначальную разборку документов, устанавливали, какие в этапе есть специалисты, а затем их вызывали к начальству. Заведующие разных производств или начальники командировок (отделений лагеря) начинали отбирать себе людей. Между ними возникали споры тут же, перед самим "товаром". В зубы, конечно, не заглядывали, мышц не щупали.
Поскольку в Мариина пришлось приехать вторично ( в 1951 г.), то есть смысл сказать, какая произошла за 16 лет перемена (уехал оттуда первый раз в феврале 1935 г.), учитывая, что были 1937-1938 гг. и война. Разница за это время оказалась огромная. В 1933 г., когда немного огляделся, т.е. примерно через неделю, сказали, что некоторые из заключенных живут в городе, снимая там комнату. Конечно, это было доступно для тех, кто получал из дома деньги, притом получал через кого-то, так как получать на имя з/к и вообще иметь при себе деньги запрещалось. Через какое-то время о вольной жизни (в сущности это была жизнь не лагерная, а ссыльных, с той однако разницей, что по первому требованию лагерного начальства з/к, живший в городе, должен был вернуться в лагерь) я узнал более определенно. В Омске к этапу присоединили несколько женщин, среди них (когда шли от станции до тюрьмы в Мариинске) была видна молодая девушка, хорошо одетая, по виду интеллигентка. По колонне мужчин прошел слух, что это Маруся Стазаева, что посажена из-за жениха, который в чем-то обвиняется, что дали ей два или три года. Летом 1934 года мой начальник (начальник строительства Сусловского отделения) М.М.Галенчик рассказывал после поездки из Суслова в Мариинск, как хорошо он там провел время. Был в гостях у Маруси Стазаевой. Стол, понимаете, накрыт скатертью, водка не из бутылки, а из графина (начальник был большой, даже очень большой выпивоха). Еще более удивительная история получилась с Женей Пфляумбаум. В октябре 1934 г. я поехал в Мариинск, чтобы забрать рамы для строящихся бараков. Оформив дело и собираясь отправиться на вокзал, чтобы ехать обратно (от Мариинска до Суслово одна остановка, а там от станции до Отделения 7 км) я подошел к газетному киоску и купил "Литературную газету". В это время женский голос сзади спросил: "А больше "Литературной газеты" нет?". Нет, сказала киоскерша. Я оглянулся. За мной стояла Женя. Когда меня в 1930 г. удалили из Библиотеки, я передал дела Жене, а теперь встреча в Мариинске. Естественно, завязался разговор. Она потащила к себе (комната с покатым полом в дряхлом домике), где угостила затиркой. Долго сидеть там я не мог, но успел узнать, что Женя делает в Мариинске. Оказывается Максима Лужанина [мужа] засудили на два года, и он сейчас работает в Управлении в УРО (Учетно-распределительный отдел), а она приехала, чтобы быть вместе или по крайней мере близко.