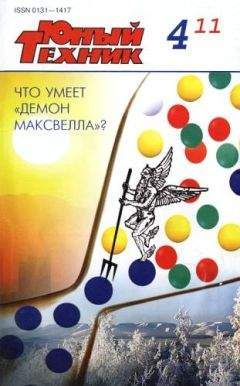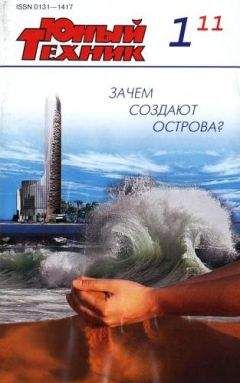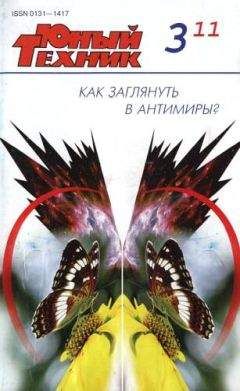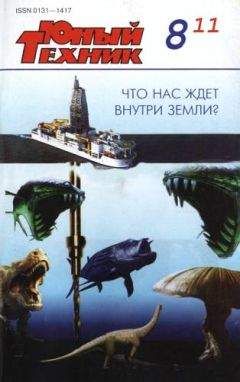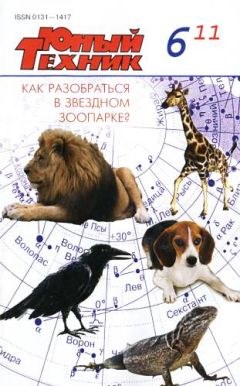Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №08 за 1988 год
Сейчас к обычным трудностям жизни оленеводов прибавились новые, которых раньше не было. Это дефицит оленеводческого инвентаря, меховой одежды, традиционного питания. Кто-то должен снабжать оленеводов. Но у совхоза «Манильский» другие заботы. Здесь, в суровых условиях Севера, решили создать продуктивное молочно-животноводческое хозяйство, выращивать птицу. Нужно завозить «с материка» и заготавливать на месте корма, нужна электроэнергия, топливо для обогрева животных, и, естественно, нужны специалисты и квалифицированные рабочие, которые здесь будут получать почти двойные «северные» оклады. В результате добросовестный труд приехавших на Север животноводов и птицеводов в 1986 году принес совхозу четверть миллиона рублей прямых убытков, не говоря уже о затратах из районного бюджета на обеспечение приезжих жильем и социально-бытовой инфраструктурой. А ведь жилищные проблемы здесь, особенно для коренного населения, чрезвычайно остры! Но зато в столовой райцентра теперь всегда есть свежие яйца и молочные блюда, которые любят приезжие и почти не употребляют коренные жители.
И все же совхоз «Манильский» не «прогорел». Спасли оленеводы-пенсионеры, давшие в 1986 году прибыли более чем на полмиллиона рублей.
Теперь кто-то должен позаботиться и о них, чтобы они и в следующие годы могли покрывать убытки от производства дорогостоящей, не северной продукции. Но, оказывается, сделать это уже некому. Издавна лучшим снабженцем и кормильцем оленеводов были береговые жители — зверобои, рыбаки, ремесленники. Они снабжали оленеводов вяленой рыбой, жиром морского зверя, кожей тюленя-лахтака для упряжи и обуви, ремесленными изделиями. А получали от оленеводов мясо и шкуры оленей. Сейчас же, как я уже говорил, береговые поселки на Пенжинской губе ликвидированы. Что же завезут в тундру — рыбные консервы, пластмассовые чааты, негнущиеся на морозе резиновые сапоги и болоньевые куртки для любителей ревматизма? Кажется, вот тут-то и могла бы пригодиться Парень, но...
С тех пор, как совхоз «Манильский» начал развивать животноводство и птицеводство, Пареньское отделение ему стало не нужным. И пришло «простое» решение: объявить село Парень «неперспективным». Тогда не нужно строить, наращивать производство, ремонтировать, обслуживать, завозить и вывозить грузы. С «неперспективными» людьми и разговаривать проще. Для управленцев большое облегчение — на одну единицу управления стало меньше. И это в районе, где всего-то восемь поселков, причем один из них «специализировался» на вопросах управления!
А в Парени теперь школа до 3-го класса, заработки рабочих очень низкие, снабжение соответствующее. На все жалобы ответ один: уезжайте отсюда. Но ехать в общем тоже некуда. Обещанные районным руководством дома для переселенцев еще в проекте и будут ли строиться — неизвестно. Расчет на то, что упрямые пареньцы сами разъедутся кто куда, и все утихнет само собой. Но эти люди не хотят уходить со своей земли. И вот почему.
Пареньские коряки издавна населяют эти места. В составе корякского народа они составляют особое племя со своей территорией, историей, особым языком, культурно-духовной общностью. Их самоназвание «пой-толо»—живущие у реки Пойтовоям. Эти люди никогда не были оленеводами, они береговые жители. Их нива — море и лес, их жатва — рыба, тюлени, киты летом, красные лисицы и белки зимой. Их традиционные партнеры по обмену — «чаучу», то есть оленеводы. Было у пареньцев развито и кузнечное дело. В прошлом они считались лучшими кузнецами на всем северо-востоке Азии. Пареньские ножи и копья в XVIII—XIX веках охотно покупали русские, понимавшие толк в хорошем металле.
В Камчатском областном архиве я разыскал докладную записку о хозяйстве Парени в начале 30-х годов, составленную краеведом Пенжинской культбазы Комитета Севера В. Аполловым. Он пишет: «Несмотря на примитивность и ограниченность орудий производства, Парень своей продукцией — ножами — до сегодняшнего дня снабжает не только население округа, но и частично туземцев всей Чукотки и Колымы». Кузнечным делом тогда занималось 22 человека, из которых одиннадцать считались отличными мастерами. По запискам Аполлова можно представить размеры этого промысла Парени: с ноября 1930 по март 1931 года было изготовлено ножей, топоров, копий, багров для байдар на сумму почти 3500 рублей. Что ни говори, а масштабы для поселка (207 человек) значительные.
Пареньские кузнецы знали технику инкрустации по металлу, их изделия были не только лучшими по качеству, но и самыми красивыми. Раньше с этим считались. На Гижиге до революции был государственный запасный магазин, куда специально для пареньских коряков завозили железо.
А что теперь? Искать металл приходится самим. Совхоз заказывает своему отделению не более 300 ножей в год. Топоры, копья, багры не делают вовсе. И кузнецов осталось мало. Опытные мастера Василий Татович Оптаят и Николай Хечгинтович Четвинин успели передать свое умение кое-кому из молодых. Хорошо работают Владимир Амани, Виктор Кевев. Но все же кузнечный промысел Парени явно в упадке. А жаль! Хорошие ножи нужны охотникам и оленеводам. И не только на Камчатке, а по всему Северу. Я знаю, что за старые кованые топоры, которые находят еще в заброшенных архангельских и вологодских деревнях, плотники-профессионалы платят по сто рублей. Жаль, если этот уникальный народный промысел уйдет из жизни в музей.
О прошлом Парени мы говорили с бывшим председателем здешнего колхоза «Искра» Александром Эхейвовичем Челкуниным.
— Раньше наши отцы так жили — весной разъезжались по стойбищам на берег моря. Таких мест было пять: Тылхой, Куюл, Карночек, Начгаты и Хаимчики. Здесь готовились к весеннему промыслу. Мужчины скрепляли остов байдары, женщины сшивали шкуру лахтака для обтяжки. Байдару спускали на воду и делали праздник. Потом была работа: среди льдин охотились на лахтаков — бородатых тюленей. Летом большие байдары сушили и с берега или на маленьких лодочках «мато» сачками и сетями ловили рыбу. К осени опять ладили байдары и выходили в море. Или загораживали тюленьи залежки на берегу и били добычу колотушками. По первому снегу на собачках все разъезжались в Парень и Куюл. Тут уж по кузницам работали, а женщины шили, скоблили шкуры. Ездили на ярмарки в Аянку, Слаутное, Апуку.
— А как вы при колхозе жили? — поинтересовался я.
— Колхоз «Искра» начался у нас с 1932 года.
Андрей Милико был его первым председателем, потом был Еремин Иван Анисимович, а после него я стал. До 1939 года мы еще в старых землянках жили, в которые залезали по столбу через крышу. Я мальчишкой был, девять лет мне было, когда приехал к нам первый учитель. Баурма — звали мы его (Этнограф Константин Иванович Бауэрман.) . Кроме него, русских тогда никого в Парени не было. Его у нас все любили. Он раздал всем тетрадки и карандаши, учил читать и буквы писать по-русски. Школа тоже в землянке была, там под земляной крышей висели портреты Сталина и Ворошилова.
В войну стали поселки сселять — сначала Иткану, потом Ловаты и Орночек. Нас не трогали. После войны мы совсем хорошо зажили. Стали нас возить на работу в Чайбуху (Магаданская обл.— А. П.) на весенний лов сельди. Зарабатывали там, бывало, по три-четыре тысячи за сезон. А потом возвращались и еще на Карночеке ловили красную рыбу, сельдь и сдавали на приемный пункт в Хаимчиках, морского зверя тогда еще много били. Вот это наши лучшие годы. Хорошо тогда жили. И сейчас можно было бы жить не хуже, да только не нужны мы никому. От нас только беспокойство всем людям. Вот и вы из самой Москвы приехали.
Так и не кончил Александр Эхейвович рассказ об истории колхоза. Задал мне вопрос:
— А скажите, вот так можно делать? Из района к нам приехали представители, на улице собрали людей и говорят: «Мы у вас заберем ваши постройки, они совхозные, а вы, если хотите, оставайтесь». Зачем так грозить? — И добавил: — Тише надо подходить к людям...
С историей береговых коряков я столкнулся и на острове Добржанского, недалеко от Парени. Молодой коряк Виктор Кевев сказал, что на этом острове сохранились древние сооружения из китовых костей. Мне приходилось видеть древнеэскимосские памятники. Видел я и знаменитую Китовую Аллею на острове Иттыгран в Синявинском проливе — ряды пяти-шестиметровых, вкопанных в землю челюстей гренландских китов. Но что обычно для Чукотки, для Камчатки, похоже, редкость. О традиционном корякском китобойном промысле в Охотском море сведений вообще мало. А тут неизвестный памятник.
Выехали рано утром. Завернули к рыбакам на Карночек, подкрепились испеченным на костре лососем, выпили чаю и на двух лодках отправились к острову. Дул встречный ветер. Корму и особенно сидящего у мотора Виктора захлестывала волна. Остров быстро приближался, рос на глазах. На угрюмых утесах открывались глубокие трещины, обрывы. Мы подошли к острову с северной подветренной стороны и попали в уютную тихую бухту. Спокойная вода, серо-стальные скалы и галечный берег...