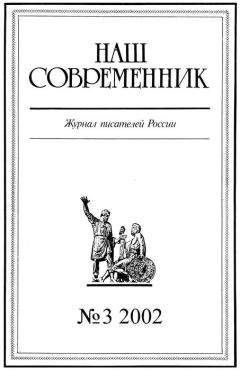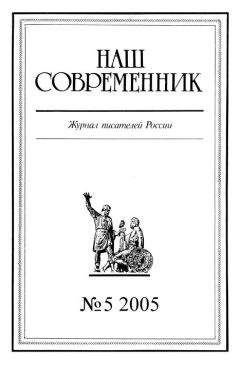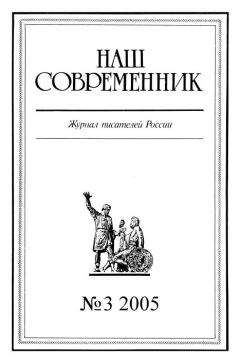Журнал «Наш cовременник» - Наш Современник, 2005 № 01
Стихи более чем убедительно доказывают, что массированная критика «русских европейцев» не то что не сломила Пушкина, но даже не заставила его хоть в чем-то усомниться (что, похоже, произошло в ту пору с Жуковским). Она только укрепила поэта в стремлении отстаивать исконные русские ценности и интересы, самую русскость. Вместе с тем предельная жесткость ответа показывала, что примирение русскости с просвещением в ущерб русскости (на чём настаивали критики) было для Пушкина невозможно.
Дороги поэта и «русских европейцев» отныне расходились.
Было бы заблуждением думать, что Пушкина в ходе полемики по польскому (а точнее, русскому) вопросу не поддержал никто. Напротив, большая часть России приняла в 1831 году его сторону (ср.: «Россия вопиет против этого беззакония»). Сам царь и члены августейшей семьи, правительственные чиновники, литераторы средней руки, офицеры, обыватели и представители иных сословий и профессиональных групп восторгались пушкинскими стихами. Это, безусловно, важно, однако много важнее то, что интеллектуальная элита, «коноводы» общественного мнения и культуры, люди, от которых в значительной мере зависело будущее страны, демонстративно подвергли Пушкина остракизму.
В этом сообществе Пушкин оказался в почти полной изоляции.
Ярким исключением стал, пожалуй, только Чаадаев, написавший поэту в непростую для того минуту поистине вещие слова: «Мой друг, никогда ещё вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы — национальный поэт; вы угадали, наконец, своё призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать. <…> Я не знаю, понимаете ли вы меня, как следует? Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране. <…> Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете; но пусть их говорят, а мы пойдём вперёд; когда угадал… малую часть той силы, которая нами движет, другой раз угадаешь её… наверное всю. Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант…».
«Но пусть их говорят, а мы пойдём вперед…» Так они и встали рядом, русский поэт и русский мыслитель, и пошли против толпы — за свою Россию — до конца, каждый к своей Черной речке. Один вскоре принял пулю, другому выпало едва ли меньшее: унижения от тупой силы, которую не призовёшь к барьеру, суд хамелеонов*, глупцов и невежд, мнящих себя «патриотами», и наконец, самое страшное — посмертное оболгание: зачисление в идеологи крайних западников и русофобов…
Пустились в путь и их идейные противники, кооптируя на всяком шагу в свои ряды разношерстную публику и постепенно становясь «интеллигенцией»**. «Новые люди» придерживались столь радикальных взглядов, что на их фоне зажившийся князь Вяземский, некогда обвинявший Пушкина в отсталости, стал в некоторых вопросах казаться консерватором («либеральным консерватором», по его собственному определению). За ними, а не за Пушкиным, бодро отмахиваясь от прошлого, устремилась к «просвещению» и почти вся остальная Россия. На несколько десятилетий она даже забыла о Пушкине, избрав себе иных кумиров. (Позднее, правда, одумалась и приспособила более или менее подходящую часть пушкинского наследия для своих «прогрессивных» нужд. Этот «мнимый Пушкин» бессовестно эксплуатируется до сих пор.) Но отдельные писатели и поэты (опять же — люди высочайшей европейской образованности!) хранили пушкинские традиции и в решительный час беззаветно обороняли уходящую русскость. Так поступил, в частности, Ф. И. Тютчев, который в 1863 году воздал должное новому усмирителю Польши графу М. Н. Муравьеву — тому,
…Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя народу своему —
Кто всю ответственность, весь труд и бремя
Взял на себя в отчаянной борьбе —
И бедное, замученное племя,
Воздвигнув к жизни, вынес на себе —
Кто, избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим —
Назло врагам, их лжи и озлобленью,
Назло, увы, и пошлостям родным…*
«Целость России», а значит, святость русской истории, эту целость принесшей, — вот что защищали воины и поэты и в 1831-м и в 1863-м. Неприкосновенность родных рубежей, заболотившихся от крови, и «отеческие гробы» проливших эту кровь, а не территориальные приращения волновали их:
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали…
Куда уж, кажется, яснее: оставьте нас, мы сами по себе и нам не до вас. Мы терпимы к вам, многое от вас с благодарностью переняли, мы даже готовы выручать вас из беды и искупать «нашей кровью Европы вольность, честь и мир» — так будьте же, наконец, и вы толерантны к нам, согласитесь на такое «европейское равновесие». Не желаете — что ж, живите по Лафайету или Пальмерстону, и в этом случае наши орды не ринутся на цивилизацию, а останутся на засечной черте. Но помните: рубежи целостной России для настоящих русских священны, и за ними, на попранной нашей земле, уже — mille pаrdons! — не витийствуйте о толерантности:
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
Только отпетые пошляки и клеветники смели назвать такую позицию агрессивным «варварством», «людоедством», «подавлением свободы» и т. п.
Горестно вспоминать, как постепенно деградировала Русская партия, уходила из нашей жизни пушкинская русскость и сколько российских знаменитостей так или иначе причастны к её проводам. Кто-то не раз писал, сколь «великий русский поэт Пушкин национален», и к этому добавлял: «Грустно сознаться, но патриотизм Пушкина был узким. <…> Грубая сила государства льстила его патриотическому инстинкту, вот почему он разделял варварское желание отвечать на возражения ядрами. Россия — отчасти раба и потому, что она находит поэзию в материальной силе и видит славу в том, чтобы быть пугалом народов». Другой, боевой офицер и писатель, прославленный на весь мир, признавался, что «держит в узде» свой патриотизм (потом он ещё повторил английское изречение про «последнее прибежище негодяя», которое демагоги перенацелили в отечественных националистов, — а те долго не знали, чем возразить). Припоминается и милый человек в пенсне, болевший «за Японию, чудесную страну, которую, конечно, разобьёт и всей своей тяжестью раздавит Россия»**. (Напрасно он переживал: не раздавила, уже не та была, и спустя несколько месяцев микадо принимал телеграфические поздравления с победой от российских писателей и общественных деятелей.) Всплывают в памяти и многие другие, выдающиеся и рангом пониже: им тоже довелось угореть от русских ценностей — и они замечтали о целебном «прогрессе»…
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
1831-й год… Давно это было — и совсем недавно. Теперь мечта поколений сбылась, и мы стоим в лакейской «общеевропейского дома».
Зато есть повод выпятить груди: так лихо спустить всё могли одни только русские.
Михаил Еськов
На Полную с ночевой
(к 80-летию Евгения Носова)
В рыбацких маршрутах Евгения Ивановича всегдашней любовью пользовались курские реки, и среди них особое место принадлежало речке Полной, что невдалеке от станции Полевой. Сами эти имена — Полевая, Полная — без постороннего инородного подмесу, исконно наши, одним лишь звучанием своим вожделенны и благостны русской душе. Рыбацкая обитель, о которой идет речь, без каких-либо претензий на значительность, не впечатляет ни быстротой течения, ни разгульной неоглядностью водного простора — на противоположном берегу без труда можно разглядеть самую малую пичужку. Однако ж название какое — Полная! Сразу ясно, что не мелкая, что положенное по природе отдано ей вдосталь, в край.
В тот поход на Полную, о котором я собираюсь рассказать, не ладилось с погодой: сентябрь, а захолодало не по времени люто. Палатку пришлось ставить в кустах, в затишке. Лова никакого не было, мы собирали сушняк для костра впрок, чтобы на всякий случай запастись дровами, если холод выгонит из палатки наружу, к огню. До темноты занимались костром, поддерживали тонкое расчетливое пламя.
Потом заморосил дождь, мы забрались в палатку, подвесили электрический фонарик, осветили наше жилье и стали обживаться. Под парусиной чувствовался по-домашнему перинный, спасительный слой соломы. И мы вслух радовались, что заблаговременно запаслись добротной по погоде сухой подстилкой. Коротать долгую ночь придется не на охолодавшей земле.