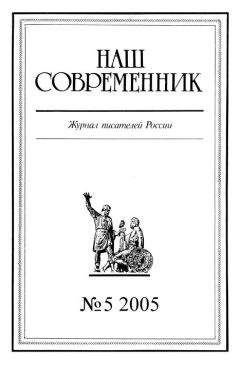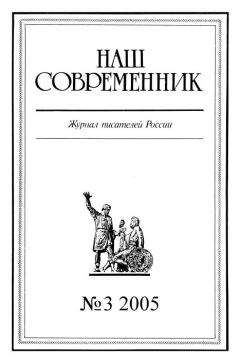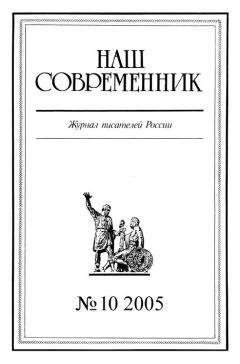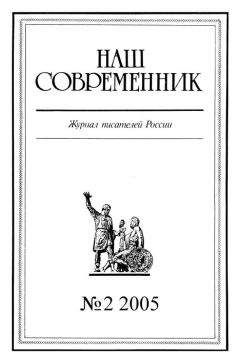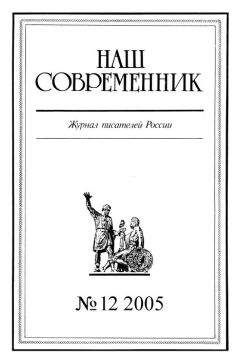Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 06
— А ну, в сторону. Дай проход! — раздался твёрдый голос конвоира.
Спиной я прижался к обледенелой стене, пропуская мимо длинную цепочку людей в расхристанной униформе. Вид их был… Как бы точнее выразиться… Побитый, что ли. Лица одинаковые: мрачные, насупленные, землистого цвета. И одеяние у всех серое. Брюки гражданские, навыпуск. Странного покроя короткополые шинелишки. Смешные пилотки с опущенными на уши отворотами. Плечи, шеи замотаны чуть ли не бабьим тряпьём. Точь-в-точь как на карикатурах Кукрыниксов в «Окнах РОСТА», вывешиваемых регулярно у входа в городской парк, где дети и взрослые набирались информации и воинственного духа. Теперь же враги были в двух шагах, в станционном зале, под перекрёстным огнём безжалостных взглядов измученных войной страдальцев.
На минуту-другую зал охватила гнетущая тишина. Умолк даже младенец, до того оравший несколько часов кряду — то ли от голода, то ли от боли. Как ни странно, и репродуктор-громкоговоритель отключился словно сам собой.
От пленных исходил чужой (не наш!) гнилостный запах с примесью приторной парфюмерии. Последнее особенно раздражало, усиливая неприязнь и ненависть к «фашистским гадам». Наш рассвирепевший народ воспринимал пришельцев с Запада как нелюдей сатанинского происхождения.
Трудно понять, с какой целью завели конвоиры в станционный зальчик отбившуюся от военного потока группу разоружённых. Возможно, просто обогреться. Ведь и у охраны вид тоже был отнюдь не геройский — кабы не боевое оружие с примкнутыми штыками.
С военным положением в стране к тому времени гражданское население в большинстве своём уже свыклось, приспособилось. О многом сами догадывались. Многое знали. И не только от скупых сводок Информбюро и картинок «Окон РОСТА». Пёструю информацию несли уличные (чаще базарные) слухи. Из крупиц и складывалась более или менее реальная картина обстановки как на фронтах, так и событийной жизни в ближайшем посёлке. Вести большей частью были мрачные, неутешительные. Последние дни, правда, стало что-то меняться… Так случается на исходе невыносимо затянувшейся ночи — проклюнется или же просто померещится на горизонте едва уловимое глазом просветление. Если явственно и не видать, всё равно почувствуется… Так в ту трагическую зиму 41-го года народ наш скорее сердцем уловил то, о чём пока помалкивали правительственные средства оповещения. Шёпотом передавали один другому благую и долгожданную весть: под Москвой наши, похоже, дали немцам «прикурить». Пожалуй, та жалкая горстка пленных могла служить тому наглядным подтверждением.
— А-а-а, итальяшки-макаронники, — с некоторым вроде бы разочарованием прошамкал плюгавенький старикашка в драном кожушке.
Уверенно, без предосторожностей пробирался он сквозь толпу, помахивая на ходу и одновременно развязывая пухлый кисет.
— Ну-ка, чичероне, навались на русский табачок! — при этом сделал широкий жест, приглашая крайних воспользоваться и оценить даровое курево.
Молодой конвоир от неожиданности оторопело крикнул:
— Оставить! Не положено!
В зале возникло движение и ропот. Что-то похожее на сочувствие. В таком смысле: хоть они и пленные, и вороги, но люди же.
Пошептавшись с кем-то из своих, старшой разрешил не предусмотренную караульным уставом поблажку.
Табачок табачком, но для цигарки требуется и подходящая бумага. По рукам пошла сложенная в книжечку газетная четвертушка. Огонёк у пленных оказался свой. Через минуту в воздухе, пропитанном смрадом войны, пахнуло благовонием. То была знаменитая моршанская махра. Конвоиры тоже приобщились: свернули большущую «козью ножку», одну на всех.
Не знаю, как это выразить словами. Помню свои ощущения и настроение хмурых и озабоченных соотечественников, по воле рока оказавшихся на путаных дорогах войны. Даже теперь, шестьдесят лет спустя, могу сказать: народ мой, находящийся в ту пору на грани отчаяния, не потерял души. То есть готов был не только к отмщению, но и, при известных обстоятельствах, сменить гнев на милость. Что вскоре и подтвердилось в жизни.
Теперь открою сокровенное, о чём никогда и никому не рассказывал, потому как не был уверен, что буду правильно понят. Ведь времена-то были разные. Теперь же, право, мне уже всё равно.
Так вот… В какой-то момент в душе моей тогда что-то дрогнуло. Следом подумалось: этим пленным, пожалуй, труднее и хуже, чем нашим. Уж не знаю, откуда мне, пацанёнку, в башку втемяшилось, что плен хуже смерти. Нет, то была отнюдь не пропаганда. Это шло из глубины национального сознания: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Ясного понимания глубины этой морали, конечно, не было, но было туманное, интуитивное предчувствие. И мне захотелось хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь скрасить их бесконечно жалкую, никчёмную участь. Но что мог я, не имевший за душой нич-ч-чего! А впрочем, была у меня, по мальчишеским меркам, довольно весомая сумма. Хорошо помню: это были сорок семь рублей. Едва ли не год собирал, с довоенной поры.
Не предвидя худых последствий, я нащупал за пазухой ватника, в потайном кармашке, перетянутый резинкой свёрточек. Самым трудным было движение второе: выждав момент, ткнул свёрточек в чью-то полураскрытую ладонь. Конвой вроде бы ничего не заметил. Или же только сделал вид. Как бы то ни было, деньжата бесследно исчезли, растворились в серой массе.
Между тем напор любопытных усилился. Трудно было удерживать равновесие, да ещё с полным чайником кипятка. Решил я, что дело сделано, и стал выбираться из круга. И вдруг замер от неожиданного. Не иначе как с небес донеслись звуки неземной музыки. Первая мысль: это мне показалось. Хотя и прежде замечал за собой подобное… Будто кто-то окликает меня по имени. Другой раз послышится звон или же отчётливый возглас. Мама говорила, что это случается от напряжения нервов, усталости, голода. Всего такого тогда было в предостатке.
И всё же на сей раз музыка была правдоподобная, всамделишная. Низко склонив голову, на губной гармошке играл долговязый пленный «дядечка» в невероятно огромных соломенных бахилах на ногах.
— Ишь, словно заслуженный артист на тальянке шпарит, — бормотал оказавшийся почему-то рядом со мной старикашка, не пожалевший дорогого самосада для «гадов». А ведь и кисет у них там остался.
— И ты тоже молодчага, парниша, — прибавил он, заговорщически мне подмигнув и крепко сжав руку чуть ниже локтя.
— Музыку прекратить! — грозно скомандовал конвоир.
Но факт уже свершился. Трудно предположить — и оценить! — меру его, скажем, воздействия на ход той проклятой войны, как и на последующую за ней жизнь. На скрижалях не зря же записано: «Ничто не проходит бесследно».
Что касается меня… Всю жизнь ношу в глубине души ту сладостно-печальную музыку, сыгранную в предновогоднюю ночь на вокзале узловой станции Мичуринска пленным «итальяшкой». Много-много лет спустя я узнал, что то была мелодия Шуберта «Аве Мария».
А жизнь катила нас, словно шарики, по замысловатому жёлобу. Причём обстоятельства менялись как в сказке.
Купленные билеты (один взрослый и два детских) так и не пригодились. Счастливым для нас оказался ночной товарняк. На открытой всем ветрам тормозной площадке четырёхосного вагона с порожней цистерной из-под нефти проехали мы в компании таких же голодрыг в сорокаградусный мороз 130 километров без единой остановки. Эшелон с бешеной скоростью нёсся в Ишимбай, за очередной дозой горючего для фронта. Ему диспетчеры давали «зелёный маршрут».
Не иначе как небеса покровительствовали нашей семейке. Будто по расписанию спецэшелон притормозил и даже сделал минутную остановку на полустанке Строганово. Нам этого хватило для того, чтобы кубарем скатиться с верхотуры и упасть в колючий и твёрдый, как гранит, сугроб. Откуда-то подвернулась и счастливая оказия. Хромой дядька устроил нас в розвальнях, упаковав с головы до ног в душистое сено.
По прибытии в Знаменку спецкомиссия поставила нашу троицу на спецдовольствие, от коего и теперь многие не отказались бы. Нас, голодранцев, обули, одели с ног до головы. А к новогодним праздникам всем эвакуированным выдали месячный продуктовый паёк. В пакете оказался, между прочим, и копчёный говяжий язык. Не знаю, где тамошние снабженцы раздобыли столь редкий деликатес, который с тех пор я больше не едал и даже не видел.
Как же теперь, с нынешней колокольни, объяснить и как совместить легендарные сталинские «злодейства» и широко распространённое в повседневности непоказушное, натуральное милосердие? А ведь оно было, было! И не только в сердцах советских граждан, а и в казённой учрежденческой среде. А нынешние политологи и первые лица государства бездумно клянут и мажут чёрной краской собственное же прошлое, хотя нынешняя действительность куда подлее, злее, мерзопакостней…
Долго ещё нашу семью трепала злая военная судьба. Дороги эвакуации занесли нас в Астрахань. А в этом городе у нас ни одного знакомого лица. Жили как беспризорники на красивом, восточного типа вокзале. Нас с сестрицей выловила милиция. Выяснив, кто мы такие и откуда, всю семейку перепроводили в эвакопункт. После тщательной санобработки определили в общежитие рыбокомбината им. Микояна, прикрепили к заводской столовой.