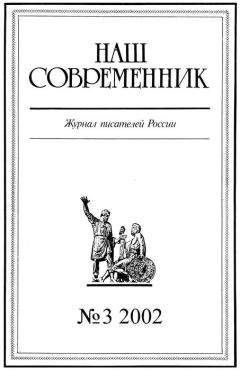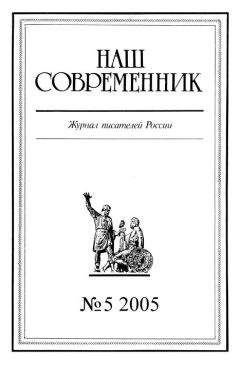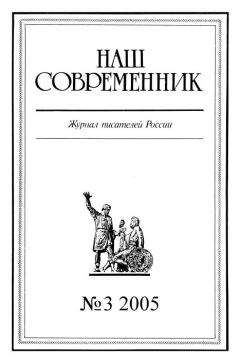Журнал «Наш cовременник» - Наш Современник, 2005 № 01
Одна из них — «письменный стол» Пушкина.
Русская тема — во многих её проявлениях — всегда присутствовала в творчестве Пушкина. Присутствовала и во времена радикальной юности, когда поэт, следуя моде, отдал дань настроениям антигосударственным и в определенном смысле антирусским. (В. В. Розанов заметил: «Надо особенно указать, что сказки, его предисловие к „Руслану“ и вообще множество русизма относится к очень молодым годам, так что неверно изображать дело так, что вот „с годами он одумался и стал русачком“».) В более зрелый период жизни количество «русских» текстов заметно возросло, а в тридцатые годы их стало ещё больше. Казалось бы, благотворная тенденция налицо, но не тут-то было.
Ибо выясняется, что существовала латентная русскость в творчестве Пушкина — его вынужденный стратегический компромисс со временем.
Дело в том, что весьма значительный корпус «русских» текстов Пушкина так и не был предан гласности при его жизни. Такая участь постигла, к примеру, стихотворения: «Боже! Царя храни!..»*, «На тихих берегах Москвы…», «Вечерня отошла давно…», «Песни о Стеньке Разине», «Подруга дней моих суровых…», «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»), «Моя родословная», «Два чувства дивно близки нам…», «Чудный сон мне Бог послал…», «Отцы пустынники и жены непорочны…» и многие другие. Не были опубликованы и такие публицистические и критические опыты Пушкина, как «Некоторые исторические замечания», «О народности в литературе», «О народном воспитании», «Письмо к издателю „Московского вестника“», «О втором томе „Истории русского народа“ Полевого», «Путешествие из Москвы в Петербург», «О ничтожестве литературы русской», «Александр Радищев» и прочие. Указанные произведения были написаны в несхожие периоды жизни Пушкина, при разных императорах и неодинаковых конкретно-исторических условиях. Иными словами, контекст как будто претерпевал изменения, подчас даже кардинальные, — латентная же русскость поэта как была, так и оставалась неизменной составляющей его духовной биографии.
Причин тому видится несколько. На первое место надо, естественно, поставить волю самого автора («Ты сам свой высший суд»), обусловленную соображениями как собственно творческими, так и прочими — этическими, политическими и т. д. Помимо автоцензуры, немалую (а подчас и значительную) роль сыграли цензура обычная, представляющая (в её понимании) интересы государства, и сами цари, особенно Николай I, объявивший себя цензором поэта. Наконец, должно помнить и о пресловутом «общественном мнении», которого в строго научном смысле не было в тогдашней России, но которое существовало в форме полугласного мнения родовой и культурной элиты, создавало (или, напротив, разрушало) репутации и оказывало мощное влияние на литературное поведение авторов.
Силу воздействия на Пушкина этой триединой цензуры, регулировавшей, в числе прочего, и масштабы допустимой русскости, правомерно трактовать как объективный показатель уровня европеизации российской элиты. Цензура вкупе с автоцензурой, осознанно или неосознанно, напрямую и косвенно демонстрировали, сколь далеко элита продвинулась по европейской дороге, проникаясь духом «цивилизации», усвоила и сделала своими общечеловеческие ценности. Даже резкая корректировка государственного курса при Николае I смогла только притормозить данный процесс, но не пустить его вспять. К месту будет заметить, что в царствование этого императора, много и плодотворно потрудившегося на русской ниве, уже далеко не все вспышки национального чувства безоговорочно одобрялись верховной властью (вспомним, допустим, о жесткой реакции царя на отдельные акции славянофилов).
Таким образом, русскость хранила Пушкина от всецелого поглощения европеизмом — но и наступающий широковещательный европеизм, в свою очередь, дозировал публичные формы бытования пушкинской русскости, налагая вето на часть творческих ее плодов и не пуская их далее «письменного стола». Этот паритет поддерживался даже на уровне светского общения, в гостиных, где «сильное русофильство» поэта уравновешивалось острыми и не всегда беззлобными шутками его приятелей.
Теоретически подобное равновесие могло сохраняться очень долго — вплоть до самого конца. Многие большие поэты так, балансируя и постепенно уступая, и прожили жизнь — и прожили вполне достойно. Но поэты, возведенные из больших в национальные, шли на компромисс со временем только до того часа, в который их толерантность к чужому грозила (в их понимании) обернуться изменой родному. В тот критический час выбора им было уже не до равновесия — и они бескомпромиссно выбирали русскость.
Жизнь Пушкина сопровождалась «странными сближениями». Поражает, к примеру, синхронизм событий сентября 1826 года: взошедший на престол император принимает в первопрестольной решение вызволить поэта из ссылки, отдает приближённым соответствующие распоряжения — а в те же сроки, чуть ли не в те же часы, в далёком и ни о чём не подозревающем Михайловском ложатся на бумагу знаменующие начало новой жизни стихи «Пророка»*. Не менее многозначителен эпизод с «Гавриилиадой», которая тяжким бременем лежала на совести Пушкина и год за годом изматывала его ожиданием суровой кары. Наступает год 1828-й — и тут, словно из-под земли, возникает неведомый монах, читает у дворовых людей богохульную поэму и пишет за них, неграмотных, прошение в консисторию. На вопрос об имени он отвечает: «На что вам знать моё имя; я сделал христианское дело». С тем таинственный монах и исчезает, бесследно растворяется в истории. Монах исчезает — начинается унизительное для Пушкина расследование, совпавшее по времени с тяжелейшим душевным кризисом поэта. Однако спустя несколько месяцев приходит конец отвратительным допросным мукам и кризису, причём дело, сулившее поэту каторгу, завершается даже без публичного ущерба для пушкинской чести: царь прощает поэта тайно, не оглашая пушкинского признания в авторстве. Поэт так никогда и не узнал о страннике, который поспособствовал развязке истории с «Гавриилиадой».
1831 год был отмечен новым «сближением». В ту пору Пушкин превратился в полноценного русского дворянина — он стал мужем, обзавелся семьей и домом, с почётом вернулся на государственную службу. Буквально за несколько месяцев поэт обрел всё, чего ранее не дала или недодала ему жизнь — и что русскому служилому человеку от рождения положено, не щадя живота своего, оборонять. И почти тотчас же, ещё до приведения к присяге, Пушкину довелось выступить на защиту русскости.
В ноябре 1830 года грянул польский мятеж…
Едва получив первые сообщения, прилетевшие из взявшейся за оружие Варшавы, Пушкин оценил их чрезвычайную важность и в дальнейшем только укреплялся во мнении, что в Отечество пришел не просто бунт, даже не очередная война наподобие только что завершившейся турецкой, — но что для России наступил момент истины. «Какой год! Какие события! Известие о польском восстании меня совершенно потрясло», — восклицал поэт 9 декабря 1830 года в письме к Е. М. Хитрово. По свидетельству П. В. Нащокина, он даже «выразил желание ехать в Польшу, чтобы там принять участие в войне». Пушкин негодовал по поводу оголтелой антирусской кампании, развернутой в Европе, и восторгался статьей М. П. Погодина «Исторические размышления об отношениях Польши к России»: «Никто ныне, — сказал он историку, — не тревожит души моей, кроме вас». «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря, — убеждал поэт П. А. Вяземского 1 июня 1831 года. — Мы не можем судить её по впечатлениям европейским, каков бы ни был в прочем наш образ мыслей». В другом письме он напомнил о польском участии в наполеоновском нашествии на Россию: «Совершенно излишне возбуждать русских против Польши. Наше мнение вполне определилось 18 лет тому назад». Встреченному же на петербургской улице знакомому поэт с жаром доказывал, что «теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году».
В определённом смысле ситуация 1831 года была даже катастрофичнее времён грандиозного бородинского жертвоприношения и полыхающей Москвы. Тогда Россия на какое-то время лишилась будущего (вернее, в будущем, казалось, могла реализоваться смердяковщина: «…Хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с»). Теперь же ставилось под сомнение не только будущее, но и прошлое России. Ведь поражение от поляков обессмысливало саму русскую историю, превращало изгнание шляхты из Кремля в глупую импровизацию; русскую кровь, обильно пролитую в Праге и прочих городах и весях, — в высохшее и испарившееся ничто; многовековое сопротивление агрессивному латинству — в дремучее упрямство и т. д. Такое Отечество — без прошлого и без будущего — сразу делалось фикцией, дымом.