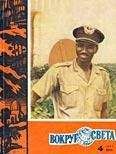Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №04 за 1962 год
Ну, ладно. Дают как-то мне задание — отвезти кое-какие продукты на Байкал. И среди прочего — мандарины ребятишкам. Я думал, мигом слетаю, а вышло не так. По тракту проехал нормально, потом свернул на зимник, да задержался по дороге, попал на наледь, а под ней — горячие ключи. Провалился. Пока выпутался, стемнело. На лед выехал в сумерках. Дорогу, правда, знал, ехал смело. Ветер поднялся сильный, прямо чувствуешь — будто кто толкает машину в сторону. Вот тут-то мой мотор чих-чих — и заглох. Стою посреди моря, как перст, только ветер песенки играет. Покопался в моторе минут пять — и обратно в кабину. Такой ветер, что лицо немеет, а пальцы сводит. Понял: с подачей непорядок. Искра есть и все такое, а бензин в карбюратор не идет. Значит, надо бензонасос разбирать. А как его на таком холоде разберешь? Знаешь, если пальцы бензином смочить, враз отморозишь. Что же, сливать воду и ждать, пока днем кто возьмет на буксир? Пуще всего мандаринов жалко. Померзнут, привезу я детишкам одну гниль.
Решил все-таки: попробую повозиться с насосом. Вдруг выйдет. Плохо без костра. Где его разожжешь на льду? Обогреться негде. Включил переноску, стал разбирать насос. Мотор быстро остыл. Минутку поработаешь, потом пальцы за пазуху суешь. Снял насос, перешел в кабинку — легче стало. Только правая рука перестала слушаться. Зашлись пальцы. Тёр-тёр — не помогает. Кое-как починил насос, сменил прокладку, поставил на место. Тут и левая рука отказала. Но мотор заработал. Разогнал я как мог, лечу птицей — эх, только бы не встретить трещину какую на льду. Грудью руль прижал — так правлю, а ладони за пазухой держу. Подъехал к сельпо, тут меня встретили — и сразу в больницу. Укол сделали, уложили на койку. Руки стали отходить, только кожа с них полезла. На второй день врачи не отпускают. Вдруг слышу — больные кричат: «Ленька, к тебе пришли!» «Кого, — думаю, — принесло? Родные далеко, кому я нужен?» Вижу — вваливаются двое с моей автобазы. Ребята под потолок, а тут робеют, мнутся, как телята. Вываливают мне на одеяло целый ворох еды — питайся, говорят, не серчай, что на выручку не пришли — не думали, что так может произойти. Но ты в нас не сомневайся.
Тут я и понял, что вроде стал для них своим, сибирским. Народ здесь дружный, не дадут погибнуть, как стружке. Если надо, в полынью за тобой нырнут, вытащат. Но без этих, без нежных слов, без целовков всяких. Тут не принято, понимаешь, хлопать по плечу. Я когда вернулся на базу, признаться, думал: может, кто скажет, герой Ленька, совершил поступок. Может, думал, газета заинтересуется. Лестно все-таки.
Молодой был, зеленый, что говорить. Но никто ничего мне этакого и не подумал сказать. Только по-другому стал себя чувствовать среди товарищей. Легко мне стало, так, понимаешь, свойственно как-то...»
Хорошо помню, с чего начался этот разговор в салоне «ТУ-104». Нас было четверо за столиком, и так как, к счастью, ни один из нас не был любителем преферанса и не высказывал желания «забить козла», то разговор завязался легко, как единственная возможность разнообразить дорожные часы.
Сначала речь зашла о расшифровке рукописей племени майя — вся Сибирь гордилась, что именно ее молодая наука осилила эту нелегкую задачу. Тут один из пассажиров со смехом вспомнил, что видел в Иркутском краеведческом музее любопытный экспонат — изображение древнетюркских надписей, высеченных на скале у реки Лены, которые, как было это выяснено учеными, означали в буквальном переводе: «я не насладился», «я благословляю», «я умираю».
— Что ж тут смешного, — сказал другой пассажир, историк по специальности, — я лично вижу в этих надписях следы какой-то глубокой драмы человека, по интеллекту, может быть, опередившего свое время. Человек, прожив жизнь, только перед ее финалом понял, что прожита она была не полно и умирает он с болью, не ощутив ее полноты, не ощутив радости. И вот вы представляете себе этого чрезвычайно дикого по виду философа, чем-то похожего на «родэновского мыслителя, который, собрав последние силы, идет на скалу и высекает эти почти библейские слова?
— Ну, это уж слишком, — возразил первый пассажир. — Это уже, знаете ли, фантазия, игра воображения.
Запал был взорван, и так легко начатая путевая беседа приняла неожиданное философское направление.
Говорили о том, что как бы ни сложна была жизнь, как бы ни разнообразны были интересы и увлечения человека, все-таки настоящую удовлетворенность, ощущение полноты, нужности, насыщенности жизни дает главное — работа. И так как собеседники были патриотами Сибири, то все пришли к выводу, что многих добровольцев, приезжающих в Сибирь, влечет именно возможность наиболее полно в трудных условиях проявить свои силы; здесь они получают особую широту для действий, инициативы. Геолога ждут здесь скрытые до поры до времени богатства недр, строителя — невиданные по масштабам сложности стройки, шофера — дальние пути... Для всех здесь найдется дело по душе.
И тут в разговор вступил маленький, худенький, неприметный человек. До сих пор он молчал, углубленный в свои размышления.
— Это вы очень верно говорите насчет Сибири, — сказал он тихо, и все мы почувствовали за этими словами что-то глубоко личное, прочувствованное, пережитое.
Историк попросил маленького человека рассказать о себе, и вплоть до самой Москвы мы слушали его неторопливую речь.
— У меня, видите ли, поначалу неудачно складывалась жизнь — так по крайней мере я считал. В школе я страстно, до самозабвения мечтал стать летчиком, прочитал уйму специальных книг, изучил все, что касалось авиации, включая законы аэродинамики, но в летное училище так и не смог попасть по причине здоровья. Три раза подряд меня браковали доктора, а я все бредил и бредил небом. Меня даже в армию не взяли из-за этого здоровья, но я так и не расставался со своей мечтой. А мои друзья, те, кто и наполовину не был, как я, заражен теской по небу, полетам, стали настоящими летчиками. Между тем я изучил радиодело, как специальность, безусловно, необходимую будущему летчику, и работал — не смейтесь! — в ателье по ремонту радиоприемников.
И вот неожиданно получаю письмо от одного из своих друзей-летчиков. Пишет, что он в авиации, в тунгусской тайге, летает на «Яке» и что недавно он, как секретарь комсомольской организации, беседовал с замполитом обо мне и тот предложил мне интересную работу — начальником нового аэродрома в тайге. Специального образования, мол, для этого не требуется, потому что аэродром очень маленький, так, скорее просто посадочная площадка, да и той пока что нет, а моя задача как раз и будет состоять в том, чтобы ее выстроить. Оклад, пишет, небольшой, а работа сложная, требующая постоянных забот и волнений. Я прочитал письмо, собрал вещи, купил полушубок, валенки и выехал на второй день.
Через неделю был на месте, в тайге. Ну, что вам рассказывать о таежном охотничьем поселке? Три-четыре десятка домов, надежно срубленных из лиственницы, две улицы, клуб-пятистенка... Самолеты прилетали туда редко, садились прямо на реку, потому что больше сесть было некуда. Но аэродром был нужен — осваивались новые воздушные линии, осваивалась тайга, кругом вырастали поселки, геологи вели здесь поиски всяких редких вещей, и небезуспешно, а мое летное поле шумело на ветру вековыми соснами. Так я стал начальником несуществующего аэродрома, один, без подчиненных, и мне предстояло прежде всего очистить от леса несколько квадратных километров.. Признаюсь, первую ночь в этом поселке я не спал, читал при свете керосинки Сент-Экзюпери: тяжко было, очень тяжко. Но — как это сказано у Грина? — «утро всегда обещает». Утром я вспомнил вековечную мудрость — если тебе тяжело, иди к людям. Вместе с бригадиром местного охотничьего колхоза мы обошли все дома. Я говорил об аэродроме, о том, что с его строительством поселок станет крупным транспортным центром, что к каждому из них сможет теперь прилететь по вызову врач; охотники слушали мою бойкую речь, посмеивались в бороды, но на воскресник пришли. Когда спилили деревья, пришлось освоить профессию взрывника. Рыл под пнями ямы, закладывал аммонал и едва успевал убежать от сыплющихся обломков. Пришел день, и площадка была готова. Я сам сшил из марли чехол ветроуказателя, выкрасил его, как положено, и повесил на шест, чтобы летчик видел направление ветра. Разве забыть и тот день, когда прилетел на мой аэродром первый самолет? Как сейчас вижу: вот он показался над верхушками дальних лиственниц, вот сник стрекот мотора, вот он стелется над самой землей, вот уже опустился хвост — летчик готовится сесть классно, на три точки. Лишь бы не дал козла, лишь бы все было хорошо! И все было хорошо.
А потом строили бревенчатое здание для аэропорта с командной вышкой в виде мезонинчика, потом строили склады, потом приехали метеорологи и радисты, и мы стали принимать самолеты по всем правилам. Окольно было еще хлопот, сколько волнений! Помню, целый месяц доставал в соседнем городе старенький бульдозер, чтобы было чем расчищать снег на поле — ведь до этого мы трамбовали его ногами, иной раз сутками длилась такая работа. Помню, как, не долетев до нас, приземлился на вынужденной «Як» с почтой и я бросился в тайгу, заблудился, ночевал в тайге, без оружия... Случилось так, что вместе с этими постоянными хлопотами пришло и личное счастье — ну, это уже вопрос, как говорится, особый. Что ж, летчика из меня не вышло, зато работа была какой-то предметной, что ли, ощутимой: вот он, аэродром, вот они, антенны передатчиков, все, что было создано своими руками. А сколько друзей оказалось, искренних, скажу я вам, верных друзей! Летчиков, и тех, кто жил в наших краях — охотников, врачей, геологов. И каждый день я понимал, что нужен им, по-настоящему нужен. Не подумайте, что я хвастаюсь. Нет, дело-то мое, я сам понимаю, небольшое, местное дело. А для меня оно важно. Вот вы заговорили о смысле жизни...