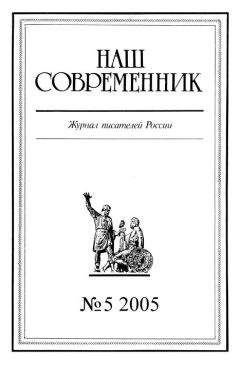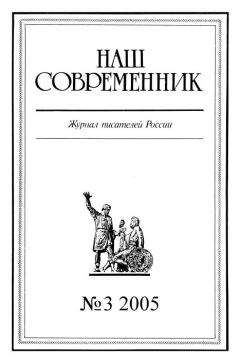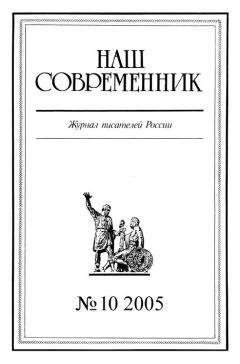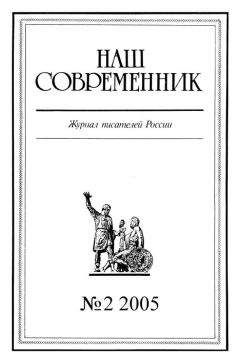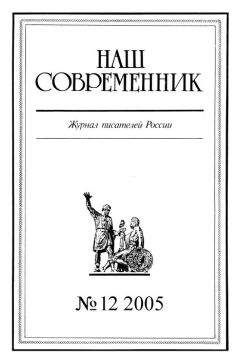Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 11
Я смотрел на работу Саши и не верил своим глазам. Какой прогресс! Какой сервис! Отсутствие государственной головы давало волю небывалой инициативе, умелым крестьянским рукам! Достойный путь прошла страна, чтобы докатиться до такой пародии!
На закате солнца кроны старых деревьев как-то особенно расслабляются, раскидываются в воздухе, словно вспоминая прожитый день. Как-то уныло, по-человечески трогательно повисают они над землей, словно бы желая вернуться назад, в свою молодость, в свой ранний возраст. Густеющая темнота над ними и между ними соединяет их, подпирает снизу. А рядом юная, стройная поросль, как стояла днем навытяжку, торопясь вырасти, так и стоит, перешептывается друг с дружкой обостренно-чуткими листьями. До земли им нет никакого дела, все их думки в небе, на высоте.
После уборки огорода — воля вольная!
Делай, что хочешь! Иди, куда хочешь! Думай, что хочешь!
Слоняясь по родным местам, я составил себе представление о новом укладе жизни окрестных деревень, в которых осталось по три-четыре дома с тремя-четырьмя старожилами-сезонниками, то есть проживающими здесь только в летний сезон.
Чуть подберет блага свои доброе красное лето, остынет земля, остынет небо, съежится в окошке ласковый свет солнца — все они, родные, закрываются один по одному, забиваются на гвозди и тихо, мирно, обреченно, согласно с необходимостью погружаются в долгую зимнюю спячку. Их многолетние старожилы, одинокие старушки, скрепя сердце отбывают куда-нибудь «в теплые края», в районный город, в соседнюю, более сохранившуюся деревню, к детям, к родственникам, к знакомым на готовые хлеба и с наступлением весны тревожно и радостно спешат назад, в свои родные остывшие углы.
Одних привозят на роскошных машинах — дружно, в несколько рук промывают полы и стены, просушивают на солнце помертвевшие за зиму постели, топят печи, стирают белье, вселяют и тем же днем заворачивают в обратный путь. Других, победнее, тоже привозят, но не на легковых машинах, а на мотоциклах, на заляпанных раствором самосвалах и даже на тракторах — спешно сваливают у порога немудреный скарб в лопоухих узлах и увязах, волоком затаскивают в дом, кое-как обнимают на ходу и спешат к своему рабочему делу. Третьих некому и не на чем привозить, добираются своим ходом — все добро их с собой, за плечами. Откроют дверь, перекрестятся на бумажную икону в темном углу — и они уже дома, словно никуда и не отлучались.
Начинается новый круг старой жизни.
«…гагара второй раз гнездо пухом выстелит. И второй пух можно собрать. Гагара в третий раз нащипает пуху. Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит».
Проходя мимо кладбища, увидел знакомых ребят из тракторной бригады. Роют очередную могилу своему очередному товарищу после очередного ЧП — слетел с моста, не вылезая из кабины трактора.
— Тормоз отказал, — объясняют.
— У всех у вас тормоза отказывают, — попытался я было сказать что-нибудь в осуждение пьянства, но знаю, все впустую, и съехал на нет. — Здесь уже целая ваша бригада лежит, и все из-за горькой.
— Из-за ней… Целая бригада…
Начали перечислять поименно — на руках не хватило пальцев.
— Вы бы хоть на кладбище матом не ругались.
— Почему?
— Здесь и женщины лежат, и дети.
— Ох! — рассмеялись. — Эти женщины и дети смолили похлеще нас!..
Уходя, пожелал им крепких тормозов.
За лето прибавилось три свежих могилы — три молодых мужика улеглись до поры, до времени. На размытых холмиках, прямо на глине, поминальные граненые стаканы, забрызганные дождем и грязью. Рядом — пустые бутылки, пластмассовые цветы, тлелые еловые ветки. Грустно, горько смотреть: стаканы наверху, мужики — внизу. Стаканы остались, мужики утонули…
За несколько дней пребывания в гостях чего только не увидел, не услышал, не перенес! Такое впечатление, что кругом — илистое дно перекрытой реки. Большая вода сошла, схлынула, смыла все, что могла смыть, снесла, утянула с собой, а что осталось в бочагах да старицах — доживает свои последние дни.
Смотришь на иного подростка — дурак дураком, нулевое образование, но у него есть переносной приемник японского производства — купил или украл? — и он уже держится эдаким доморощенным денди, продвинувшимся в сознании дальше других и поднявшимся согласно песенкам из того же приемника прямо-таки на уровень века! А то, что дважды два — четыре и что дурно пробовать остроту ножа на боках живой лошади, этого ему не внушили ни родители, ни школа, где он за пять лет одолел два класса, ни речистые знатоки и советчики из того же приемника. Смотришь на такого детину и невольно сознаешь, что его наследственность вся в рубцах и темных пятнах от постоянной сопротивляемости бедному деревенскому быту. Материя определяет сознание! Как не пожалеть его юную физическую красоту — нет ей отсюда выхода в большую жизнь, в здоровое будущее! Может быть, только армия еще образумит его…
Вся власть — на центральной усадьбе совхоза.
Утром приезжают на автобусе, на личных машинах. Вечером уезжают.
— Чужая, наездная власть, — говорит баба Лена. — Своей нет. Отобрали. Держимся токо на собственной крепи.
— Трудно, — говорю. — Ни врачебной помощи, ни магазина своего, ни каких-либо удобств. Зимой завьюжит — страшно выходить!
— А мы и не выходим.
— А как же — вода? дрова?
— Обходимся: и снег топим, и Сашка приедет — натаскает про запас. Ничего!
— А если кто заболеет?
— Собираемся вместе.
— На консилиум?
— Да. Кто с Богом, с молитвой, с отговорами, кто со своими таблетками, кто с гостинцем, со святой водой. Ничего!
В одной из деревень случился пожар. Народ сбежался, взгомонился — как тушить? Колодец далеко. Ни прежней водокачки, ни телефона, чтобы позвонить в город, в пожарную часть. Одни лопаты да вилы, да крепкое матерное слово…
Сколько хлеба вырастила эта деревня за свой долгий век, сколько защитников Отечества отдала она из своих рук — и вот осталась ни с чем. Все раздала. Миру по нитке — голому стыдоба!
Ни речка, ни ее излуки в зарослях лозняка и таволги, ни холмы по горизонту, ни жители этих мест не выдержали грубого гнета времени — все изменилось до неузнаваемости, все осело, унизилось, все лишилось того почти суеверного величия, той крутизны и силы, что видел и испытывал я здесь когда-то в детстве и юности. Нетронутым осталось только небо — голубой дым над незримым пламенем жизни, — только небо ни убавилось, ни прибавилось, все такое же — огромное, властно-красивое.
Вернулся домой — все в тревоге: баба Поля не явилась на посиделки.
— Что с нею?
— Верно, приморилась, — решили соседки — баба Лена и баба Катя.
Не долго думая, послали к ней богатыренка Ивана Ивановича:
— Сбегай… Жива она?
Расторопный малышок мигом скрывается за кустом шиповника и скоро возвращается назад.
— Жива-а-а!
— Снеси ей поесть.
— Не хот-ца.
— Да ладно, снеси! Вечером буду козу доить — молочка тебе налью. Снеси! У бабушки печка нынче не топилась, дыму не было… старенькая… Старых уважать надо…
Иван Иваныч великодушно соглашается на уговоры.
Через минуту баба Лена выносит ему из дома узелок с чашкой горячих щей, куском хлеба и несколькими помидорами, и мальчик отправляется по назначению.
Через несколько пустырей, через куст одичавшего шиповника слышно, как бухает он там голой пяткой в закрытую дверь:
— Баба Поля! Я тебе поесть принес!
Ответа бабы Поли не разобрать — только легкое подобие голоса долетает до нас.
Возвращается Иван Иванович с тем же непочатым узлом.
— Дома она?
— Дома, — отвечает недовольный пустой работой мальчик и возвращает ношу бабе Лене.
— А что ж она не взяла ужин?
— Сказала — не надо.
— Почему?
— Сказала — уморилась, ложку не может поднять. Лучше, сказала, завтра принесите позавтракать.
— Барыня!
Утром, пока дотапливалась печь, баба Лена сама понесла ей завтрак.
На обратном пути ее неожиданно окружила стая бродячих собак, чьи хозяева при отъезде побросали их на произвол судьбы. В руках ни палки, ни камня — один головной платок, в котором носила завтрак своей подруге. Утробно поскуливая от голода, собаки — одна другой страшнее, пять оскаленных морд — почти без брехни сомкнулись вокруг нее. Ни отбиться с пустыми руками, ни убежать. Закричи — кто услышит? Не помня себя, бросила им скомканный комом платок — налетели они на него, начали рвать его и метать, вырывая друг у друга, — а сама, чуть жива, боком, задом, шаг по шагу запятилась за крапиву, за куст шиповника и кое-как скрылась с их бешеных глаз. Пока собаки клубились в голодной агонии, скатившись под гору, она, не чуя ни рук, ни ног, прибежала домой.