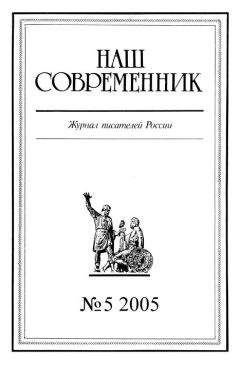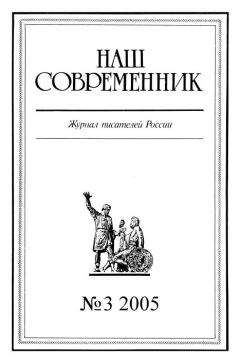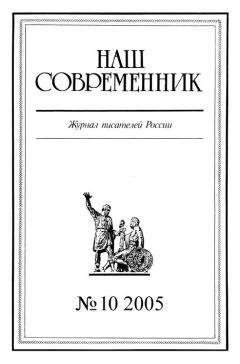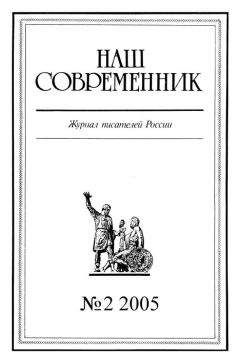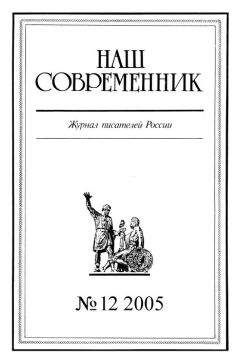Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 11
Вряд ли Россия станет исключением. Триумфальный итог — результат избирательной двухходовки 2003–2004 годов — скорее всего обернётся большими проблемами для режима на следующих выборах. Сколько бы голосов ни получила власть, результат почти наверняка будет поставлен под сомнение.
Уроки прежних кампаний могут стать решающим аргументом. Так, махинации Кучмы в 1999-м рикошетом ударили по Януковичу в 2004-м. От самого донецкого преемника немногое зависело: доверие к власти было подорвано…
Повторение киевского сценария вполне возможно в Москве. Поучительно: эта малоприятная перспектива открывается перед Путиным в момент наивысшего торжества созданной им системы.
(Продолжение следует)
Валентин Волков
РУССКАЯ КРЕПОСТЬ
(Записки смутного времени)
Стояли последние летние дни.
Сорвавшееся с ветки яблоко на границе ночи уже перекатывалось из августа в сентябрь. Меркла трава по буграм. Легко, без боли осыпался лист из желтеющих и еще зеленых крон.
По опыту недавнего своего крестьянствования мы с женой знали, что основная работа — уборка урожая — еще только начинается, еще только подготавливаются места для свала, переборки, хранения и, значит, застолье наше успеет состояться. Но мы ошиблись. Жизнь убыстряла шаги не только в городе, но и в селе. Ранние весны тянули за собой и ранние осени с их тяжкой — до полдня — свинцовой росой, с продолжительными дождями и легкими заморозками, так что к нашему приезду на огородах уже кипели уборочные работы — косили ботву, относили ее на край огорода или на одну из борозд, освобождая другие для распашки, подкапывали вилами концы грядок.
От Козельска до самой деревни шли пешком — восемь с лишним километров.
Деревня Житеевка, как тысячи других деревень России второй половины XX века, доживала последние свои дни на земле. Из тридцати когда-то крепких многолюдных домов к восьмидесятым годам осталось пять полуживых, словно обваренных кипятком домиков.
Посмотришь окрест — пустота, безлюдье, разор, — обязательно вспомнишь прекрасного северного сказителя Шергина:
«Весной гагара сядет на каменный карниз, нащипает у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать. Гагара и в третий раз нащипает пуху. Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит».
Много ученых слов потрачено на объяснение того, какая сила разорила русскую деревню, выбила из нее весь трудоспособный народ — революция? гражданская война? коллективизация? индустриализация? Великая Отечественная? сталинские пятилетки или послесталинское безвластие нанесенных ветром агентов разрушительного влияния? Меньше сказано о другом: какая сила еще удерживает здесь эти пять домиков, пять живых старожилов.
Нашей бабы Лены, к кому приехали мы с женой в Житеевку, не оказалось дома.
Побросав сумки у закрытой двери, мы отправились на огород искать хозяйку.
Сразу же за двором — старый сад. На яблонях и под яблонями — яблоки, яблоки, яблоки…
Запах антоновских яблок исчезает из крестьянских усадеб.
Так сказал бы сегодня Бунин.
Когда-то, во времена Ивана Алексеевича, так называемые садовники еще летом договаривались с хозяевами садов, а осенью приезжали на лошадях, грузили и увозили урожай.
Теперь все иначе…
Вместо бабы Лены встретилась нам на усадьбе наша давняя знакомая из-под Козельска Мария Никифоровна — в пору нашей молодости она много лет подряд пасла здесь после объединения нескольких деревень в один колхоз большую овечью отару и квартировала у бабы Лены. Высокая, хваткая, молчаливо-улыбчивая, в белом платке, в пиджаке поверх серой овечьей кофты, она воткнула в землю вилы, которыми собирала недавно скошенную ботву в копешки, и бойко шагнула к нам навстречу, и прямо-таки влилась в наши общие радостные объятия. Как всегда в эту уборочную пору, она, родная душа, пригнала сюда за десять километров лошадь из своего кое-как сохранившегося колхоза на помощь своей лучшей подруге.
— Матери нет, — сказала она, не дожидаясь нашего вопроса. — В Козельск умотала с яблоками… На винзавод повезла… Отпустила ее, пускай отдохнет, пока я тут за нее поработаю… А завтра, с утра — хорошо, что вы приехали! — все на картошку!..
День стоял теплый, с ярким солнцем и редкими блестящими облаками. Если солнце на минуту скрывалось за ними, незамутимый блеск все еще держался в глазах и в воздухе, и было так же светло, как если бы оно не заходило.
После долгой разлуки родина не ласкает, а прямо-таки мучит своим родным видом, логами и косогорами, где каждый кустик вечно на своем месте. Как вода принимает форму сосуда, в который ее наливают, так и теснимая в ребрах душа, выливаясь в пространство, принимает его объем, его даль и ширь с березняками и деревушками вдали… Одной минуты такого сладкого мучения хватит на поддержку сил, на слезы и вздохи, которыми защищаем себя от гнета бытового существования.
Пока мы с женой были на огороде, наши брошенные у порога вещи охранял с собакой соседский мальчик, временно живущий у бабы Кати. Его молодая мать, беженка из Чечни, поселившаяся здесь по наводке знакомых в одной из брошенных изб, отъехала куда-то под Москву к мужу за деньгами. У мужа своя грузовая машина с газосваркой — мотается по дачному Подмосковью, где с установлением демократии понадобилось много решеток на двери и окна. Мальчику пять лет, но за крупное телосложение и силу его уже зовут богатыренком или Иваном Ивановичем.
Получив за свой труд конфету, он благодарно разговорился:
— Я не ношу свой свитер, а ты носишь?
— Нет, не ношу, — ответил я.
— Почему?
— Нету.
— А где же он?
— Нету.
— А дома есть?
— И дома нету.
— Почему?
— Не купил.
Наступившая пауза не дает ему объяснения. Он снова возвращается к разговору о свитере:
— А когда есть, носишь свой свитер?
— Нет.
— Почему?
— Потому что нету…
Баба Лена вернулась только к вечеру.
Мы выбежали навстречу и еще с порога заметили ее угнетенное, скорбное состояние, заплаканные глаза, рассеянные движения, когда она слезала с телеги и сбрасывала на землю пустые мешки из-под яблок.
— Не возила никогда и больше не повезу, — с досадой начала она сматывать вожжи.
— Что такое?
— Сплошной дурдом: все делают, что хотят.
— Да что случилось?
— На завод не пускают ни лошадей, ни машины. Сваливай у проходной. Свалила. Сижу на мешках, что делать дальше? Надо искать ящики, пересыпать из мешков да носить на весы. А что я одна? Bсe приехали парами, кто хлопочет, кто ящики таскает… и пустые, и с яблоками… а мне и отойти нельзя — из-под рук хапают! То один прохожий, то другой — дай яблочка! Сами лезут в мешки — чтоб вас тети уколотили! Просидела час — не знаю, как добывать ящики. Одни говорят, что ящиков свободных нет — последний день приема и яблок навезли уйму, другие говорят — не верь, тетка, подожди, приемщица велела подождать. Опять сижу. Вижу, дело не клеит-ца, надо чтой-то придумывать. Подозвала каких-то шляйных мужиков. Помогите, прошу. Они и рады: на выпивку дашь? Дам, куда ж деть-ца. Они сбегали на склад, несут-ца с ящиками. Пересыпали, потащили на весы, на склад. Меня поставили в очередь, к кассе. Стой, все будет ладушки!.. Стояла, стояла — получила! Мужики рядом: давай на вино!.. Рассчиталась. Подошла к лошади — и слезы взяли. Обидно! Денег — копейки, а намучилась — сил нету! Чисто и меня, как Ордесу, всю ножикоми исполосовали, истыкали, токо не снаружи, а снутри.
— Какую Ордесу? — не понял я.
— Да вот, — кивнула она на лошадь. — Гляньте, что с ней поделали!
Все мы, приблизившись к лошади, увидели, что на её плечах и боках от спины до живота, перекрещиваясь, тянутся множественные кроваво-набухшие полосы — слипшаяся шерсть на них беспорядочно топорщилась.
Баба Лена снова заплакала:
— Заехала в магазин на центральной усадьбе… Думаю, дай куплю какого-нибудь гостинца, чаю попить… Пока повертелась у прилавка, пока вешали всякий хабур-чабур, крупу да пряники, ребята местные, добра им не будь, школьники… в городе учатся… окружили мою Ордесу и давай на ей ножики пробовать — чей вострей?.. Бедной лошади и убечь нельзя, привязана к столбу, и заступить-ца некому… А-а! Да господи! А-а! Да кормилец ты наш, заступник, да где же ты был? Да как же ты их, дураков, допустил до такого дела?.. Над бессловесной скотиной так издевать-ца! А-а! Руки-то им закорючил бы, чтобы другим было неповадно!
Все мы замерли с открытыми ртами.
Никифоровна вертелась вокруг Ордесы, как вокруг больного ребенка, осматривала ее всю с ног до головы, скорбно трогала пальцем то одну, то другую рану и все повторяла: