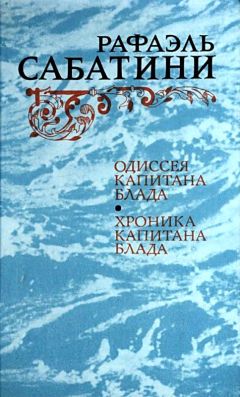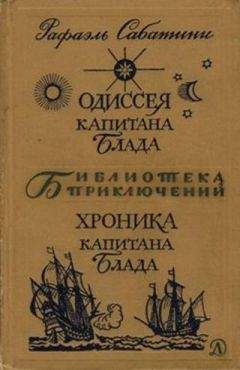Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №10 за 1974 год
По другую сторону запани, в самом устье, — рейд. Это словно город на воде: длинные улицы, переулки, мостики, избушки. Есть что-то геометрически ритмичное в четких рядах сеток, похожих на дорожки в бассейне, в слаженных взмахах людей баграми, в направленном движении бревен к сплоточным машинам. Пахнет мокрым деревом, солнцем, водой — густая, темная, зажатая деревянными тротуарами, она стремится, как всегда, к устью...
Идет и идет по Пинеге, на протяжении семисот с лишним километров, моль: почти полтора миллиона кубометров сосны и ели несут ежегодно воды реки. «Трудно избежать молевого сплава, — сетовал Герман Петрович Пшеницын, директор Холмогорской сплавной конторы, — вот разве построят скоро железную дорогу Архангельск — Карпогоры, тогда разгрузят и Пинегу...»
Помнится, об этой дороге говорил и Марк Андрианович Софронов в Архангельском институте леса и лесохимии. Заведующий лабораторией охраны и защиты леса напоминал как аксиому, что топляк отравляет воду, поглощает кислород, отчего исчезает рыба, и в первую очередь ценная — семга, стерлядь. Он приводил другие цифры, более общего масштаба, из которых было ясно, что не только Пинега страдает от молевого сплава, но и Ежуга, и Юла, и Покшенга, и Вага, которая «давно стала деревянной».
Но ведь моль — это не только медленная гибель реки, это и потери. Между тем леса на юге области почти вырублены, в среднем течении Двины вырубаются, на Онежском полуострове леса небогатые, малопроизводительные, на востоке области — притундровая климатозащитная зона, где рубка запрещена. Через 20—25 лет эксплуатационные леса области могут быть сильно истощены.
— Если мы научимся брать с гектара больше древесины за более короткий срок и рационально использовать ее, — говорил Софронов, — этого не произойдет. Да и новые леса подрастают: каждый год в области высаживают десятки тысяч гектаров...
Идем ночью: светло. Неожиданно отказало рулевое управление, и произошло это в ту минуту, когда совсем рядом проходил теплоход «Неман». На руле был Андреев. Ему ничего не оставалось, как ждать исхода неминуемого столкновения; теплоход тревожно загудел, увидев приближающийся, бессмысленно рыскающий катер и — спасибо рулевому «Немана» — резко взял в сторону...
Это случилось недалеко от берега, на небольшой глубине, и ребятам пришлось волоком тащить «Братчанин» до пристани Ракула. Остаток ночи и день прошел в работе. Местный механик Саша, светловолосый паренек, молча помогал братчанам и только иногда, когда налетал ледяной порыв ветра, повторял:
— Сиверко, однако, до костей пробират!
Об Иване Андреевиче Федоровцеве я узнала случайно.
Мы остановились у пристани Пукшенга. Толоко что от нее отвалил, шлепая плицами, колесный пароход. У причала было тихо и пустынно. Мальчишки на берегу палили костер меж валунов, и дым относило ветром в сторону деревни, стоявшей на угорах. Неподалеку от пристани сидели две молодые женщины и смотрели на реку. Я подола к ним. Обе были ясноглазые, с крепкими белыми зубами, спокойной, мягкой речью, пересыпанной полувопросительным-полуутвердительным «ну?».
Та, что порыжей, побойчей, говорила:
— Ну? Вот мать у меня и ткала, и вышивала — красота! И меня научила. А я бросила. Некогда, да и зачем? Пойдешь в магазин — и все хлопоты... У нас много мастеров в селе было, а осталось три старика, корзины плетут. Хороши таки корзины...
Огородами, перелезая через жердины, она проводила меня на край деревни. Федоровцев, худой мужичонка, в пиджачке и сапогах, стоял на крыльце своего большого дома. С хитринкой смотрели его слезящиеся глазки.
— А зачем нужен Иван Андреевич? — За его спиной в проеме двери появилась крупнотелая пожилая женщина с недобрым взглядом.
— Заходи, гостем будешь, посидим, покурим, — весело приглашал Федоровцев, косясь на жену.
В углу просторной комнаты на чисто вымытом полу стояли корзины разной величины и цвета — серые, давнишние, и бело-желтые, еще пахнущие смолой. Иван Андреевич ходил из комнаты в комнату, приносил все новые и новые.
— Коль для дела интересуешься, покажу, вопроса нет, — бормотал он. — Вот сегодня сделал... Эта для белья, эта для картошки, а с этой друга и по ягоды пойдет...
Иван Андреевич показал, как обыкновенным ножом щиплет сосну на дранку и плетет из нее эластичные прочные корзины.
— Вот каку сосну выбрать? — рассуждал вслух мастер. — Друга заковыриста попадет, а друга что лента из-под ножа идет...
— Здоровья вам, Иван Андреевич, — говорю я. — Извините за беспокойство.
— Не велико беспокойство-то, пустяки смотреть, — отвечает за Федоровцева жена.
Уже на крыльце Федоровцев сказал:
— Старики-то наши мастера были, вот и мы стараемся. Весело жить надо. Ну?
Сегодня самая короткая ночь в году. Вот уже высветилась прозрачная луна. Чем дальше мы продвигаемся к югу, тем ощутимее гаснут белые ночи. Завтра луна станет красной, исчезнет алая полоса на западе, не меркнущая в белые ночи у Белого моря, а там — гляди — появится и первая звезда, как предвестник скорого конца нашего пути...
Над серо-жемчужной водой поднимаются отвесные берега. Поверху растут сосны, внизу, на песчаной отмели, громоздятся каменные глыбы. Берега мерцают белым, голубым и розовым светом, расслаиваются — белая полоса переходит в нежно-голубую, серую, потом опять идет ярко-белая, а за ней розовая с красноватыми прожилками... Это были знаменитые на Северной Двине гипсовые скалы. Они тянулись вдоль реки на много километров, поднимаясь особенно высоко и отвесно у Пристани Звоз и постепенно сходя на нет, лишь бело-розовой каймой оттеняя, воду. Здесь, в карьерах, добывали гипсовый камень, и он уходил в Архангельск, Мурманск, Воркуту.
Засыпаешь, раскачиваясь на волне, чувствуя упругое движение катера; он словно дышит — стенки его то отодвигаются, то придвигаются, а в иллюминатор льется свет ночного неба и бежит навстречу полоса темного леса... Чем тебя встретит река завтра?
На краю большой деревни Сельцо по-над самым берегом, особняком стоит рубленая изба. С воды хорошо видно избу и дым костерка на пригорке. Можно даже разглядеть закопченный чайник над огнем.
Словно зовет хозяин чаевничать проплывающий мимо люд...
Возле костра на чурбаке работал топором худой мужчина. Надвинутая на лоб кепка, пиджачок со следами машинного масла. Это был бригадир бакенщиков Иван Петрович Попов. Один из тех, кто несет «службу реки». (Еще в Архангельске, в речном пароходстве, я наслышалась о сложностях ее на Северной Двине, где на каждые четыре километра один перекат, где ни днем, ни ночью не прекращается сплав леса, где далеко не весь водный путь может порадовать подходящими глубинами.)
Иван Петрович оказался человеком разговорчивым.
— Белые ночи — легкое для нас времечко. Без наших огней плыть можно. Но, конечно, дела делаем справно: каждое утречко все три Селецких переката — Верхний, Средний и Нижний — обследуешь, глубину шестами промеришь и докладываешь в Котлас — так-то и так... Участок у нас извилистый, песка много, уровень воды на перекатах скачет от двух с половиной метров до метра шестидесяти. Когда глубина малая — опасно. Сразу вызываешь земснаряд — выгребает песок, углубляет фарватер...
Иван Петрович встал, руку козырьком к глазам приложил, на реку смотрит:
— Плот хорошо прошел, не задел бакена. А вот и ракета шумует... Я сейчас «Обстановочный журнал» принесу. Там вся наша работа в цифрах и буквах записана.
Попов поднялся по тропинке к дому, не торопясь снял замок с дверей, и скоро я листала потрепанный журнал, не столько читая, сколько всматриваясь в неуверенные, как-то нехотя выведенные цифры и буквы. Чувствовалось, что писавшему легче держать в руках весло и топор, нежели перо. Длинными столбцами шли цифры уровня воды, которые передавали на этот пост с водопоста Абрамково, и цифры по каждому перекату на каждый день — глубина и ширина. Иногда встречались записи вроде этой: «Произведено сплошное траление судового хода жестким тралом в два заезда на участке Селецкие перекаты на глубину 240 сантиметров, по ширине тралящей части. Препятствий нет». Эмоции в записях, естественно, отсутствовали. И я спросила Попова:
— Иван Петрович, а бывало вам боязно на реке?
— Я в Сельцах при реке целый век состою. С 30-го года, как приехал с родины, с Воронежа, так и живу здесь. Уже внуки растут. Знаю реку и люблю ее, хоть не всегда она ласкова к нам быват. Вот раньше, скажем. На каждый перекат было нас четверо бакенщиков. Лодка весельная, на бакенах и створах — керосиновые фонари. Каждый день зажги, погаси да еще проверь, чтоб ветер не задул. А осенние ветры злы, волны высокие, темнота... Гребешь и не знаешь, как к бакену пристать. Пристанешь, закроешь телом фитиль от ветра — зажжешь. И сейчас, конечно, осень ласковее не стала. Идешь на моторке к бакенам, прыгаешь на волнах, а сам думаешь: «Вдруг мотор откажет?» Страх так и кочует с тобой по осенней реке. У нас на участке тринадцать бакенов и четыре пары береговых створов. Береговые огни мы не трогаем: там автоматы, сами зажигаются, сами гаснут. В бакенах — аккумуляторы. С первого июля, как ночи темнее станут, и до конца навигации, а там и по весне каждый день вечерком подплываешь к бакенам, ставишь фонари, зажигаешь, а поутру снимаешь. Ветер навальный, плот, баржа сбивают бакена, и нередко. Ночью обязательно в обход плывем, проверяем: все ли огни горят? Безопасна ли дорога через Селецкие перекаты? Так и работаем вчетвером на этом посту, на трех перекатах. По суткам каждый дежурит. Скоро катер дадут, один пост вместо пяти на 30 километрах будет...