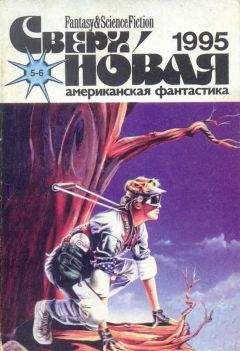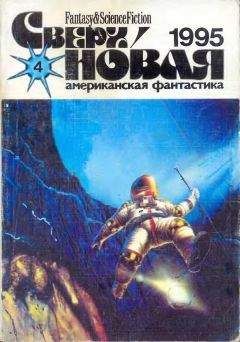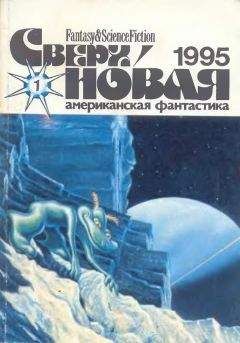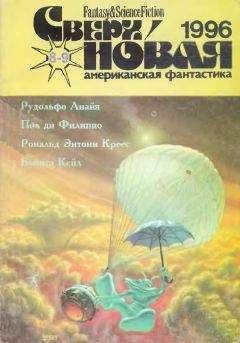Делия Шерман - Сверхновая американская фантастика, 1995 № 3
«Долго длилась любовь его; ни твоя холодность, ни гнев, ни досаждения, не могли отклонить его от тебя; он страдал невыносимо; исчезла для него прелесть жизни — ты это знала, ты жалела о нем и осталась чиста и непорочна.
«Помнишь ли, однажды, вечером, дети твои спали, муж твой в объятиях недостойной прелестницы… ты сидела одна, ветер выл и наводил на тебя невыразимое уныние; тебе было очень грустно; ты вспомнила всю протекшую жизнь и с ужасом видела, что ты была одна, всегда одна; не было отзыва на твое сердце, жаждущее любви, не было даже ответной мысли на твою мысль. Печально ты вспомнила о прошедшем, еще печальнее смотрела в будущее. Тогда, невольно представлялся твоему воображению молодой человек, одних с тобою лет, умный, добрый, положивший к ногам твоим всю душу свою. Горькое, трудное было в тебе борение… в эту самую минуту он явился пред тобою; печать долгого, глубокого страдания была на лице его, рука его была холодна, она судорожно пожала твою руку и как огненные искры посыпались по твоему телу — о, как я трепетал тогда за тебя!..
«Ты смотрела на него, ты любовалась его прекрасным лицом, которое возвысилось еще красотою страдания… он говорил мало, но слова его прожигали тебя, ты упрекала себя в его терзаниях — о как трепетал я тогда за тебя! Я не мог проникнуть, что происходило в твоем сердце, в этом тайнике, которого глубины никто не может измерить; там все волновалось; чувства, мысли, быстрее молнии сменялись другим, то была непостижимая земля в первую минуту мировоздания!.. я видел одно, что ты терзалась, как только может терзаться душа человека — трепетал, я скорбел о тебе… но как был я удивлен, когда заметил, что мало-помалу улеглися в тебе буйные страсти, ты начала другой разговор, с мудростию змеиною ты дала другое направление его и своим мыслям, и что же? ты стала говорить о твоих болезнях, о твоих телесных недостатка, ты с намерением старалась им дать вид самый безобразный, представить их неизлечимыми, — отвратительными!!. С удивлением, радостию, горем я смотрел на чудный подвиг, который ты совершала. Где другая женщина, которая бы решилась на это? Для внуки Евы ничто не страшно, ни гнев, ни презрение — все перенесет она, но отвергнуться телесной красоты своей, но волею возбудить отвращение даже в постороннем — о, это был подвиг великий и я тщательно внес его в скрижаль твоей жизни. Ты не ошиблась в твоей цели, ты разочаровала молодого человека… горько и прискорбно тебе было, что в ту минуту, когда он увлекался к тебе прежними порывами любви, воспоминание о твоем странном рассказе производило в нем невольное содрогание и пламенная речь застывала на языке его.
«Этого мало: прошло долгое время; ты захотела заменить ему себя другою, ты познакомила его с молодою девушкою, старалась их сблизить и едва заметила затеплившуюся любовь их, как ревность истерзала тебя; молодой человек показался тебе еще прелестнее, твое одиночество еще грустнее; все: и женское тщеславие, и говор света, и мысль о мрачном одиночестве, и досада, и зависть, жгучими язвами падали на твое сердце, но ты, чистая, непостижимая, ты все превозмогла! все перегорело в твоем горниле, осталось одно: непорочное милосердие к ближнему! ты бережно воспитала враждебную тебе любовь, ты оживляла, укрепляла ее, не день и не два, но целые годы!., и ты достигла своей цели: он совершенно разлюбил тебя смертною любовью, он привязался душою к избранной тобою сопернице, ты сочетала их браком, они Счастливы, у них дети, он исполнил все, что обещало его благородное сердце, но исполнил для другой, не для тебя; а ты осталась по-прежнему одна, без отрады, без утешения, без надежды на земное счастие, с мыслью, что человек, тебя любивший, не может вспомнить о тебе без благодарности, но и — и без отвращения!., и ни на чьем лице ты не встретила благодарного удивления! никто кроме меня не знал о благом твоем деле.»
— Все так, — отвечала душа, — но все мои терзания были лишь скорбию о моей собственной жизни… в далекой глубине сердца… самоотвержения не было, я… я… я не любила его…
«Кто разгадает тебя, чудная душа человека! Наступила другая эпоха твоей жизни; твои дети возросли, ты любила их всех равно, всех равно лелеяла, — но старший сын твой невольно чаще других привлекал твои взоры, ты в нем видела отца своим детям и тщательно берегла его сердце от нечистых чувств, его ум от нечистых помыслов. — Раз, собравшись с силами, как заветную тайну ты передала ему жизнь твоего мужа, не для того, чтоб он перестал уважать его, но чтоб пример отца служил ему уроком; ты раскрыла юноше все свое сердце, не утаила пред ним неизглаголанных страданий твоей жизни, ты вверила чистоте и пламени юношеского сердца… о! как ты жестоко обманулась! то, что ты рассказала своему сыну, лишь возбудило в нем чувственные помыслы; пример отца сделался для него не уроком, но образуем; погрязший в бездне неистовых страстей, он предал тебя, он рассказал отцу твои заветные, сердечные тайны; этого мало, он забыл тебя, он провожал целые дни в сообществе твоей недостойной соперницы, оправдывал ее и обвинял тебя… велико было твое горе! обидные речи сына доходили до ушей твоих! о! как я трепетал тогда за тебя! Каждую минуту я ожидал, что ты отвергнешь, что ты проклянешь его навеки — но ты с кротостью перенесла все: и обиду сына, и упреки мужа; их обоих ты старалась смягчить своею любовию, до той минуты, когда сын с рыданием бросился в твои объятия. И ты простила ему, ты все забыла. Высока и торжественна была эта минута в твоей жизни.»
— Все так, — отвечала душа, — но я знала нрав моего сына, я знала, что упреки еще более раздражат и удалят его от меня, я знала, что смирю его одною любовию и — сказать ли? в глубине моего сердца таилось другое чувство: мне бы досадно было, если бы люди заговорили, что я не умела привязать к себе своего сына, что он отвратился от меня.
Гений задумался.
«Но муж твой — муж! до самого конца жизни, — продолжал он, — ты сохранила покорность и уважение к своему мужу! довольно было одного его слова, и ты исполняла все его, часто своенравные, желания, без ропота, без тени неудовольствия.»
— Так! но я знала и нрав моего мужа, он был сумасброд и настаивал только на том, в чем ему препятствовали; самое горячее из его желаний теряло для него всю прелесть, как скоро оно могло быть исполнено; я это знала, покорность моя его обезоруживала и убивала его своенравие; легкомысленный, он забывал собственные желания и… оставалось место для исполнения моих; всегда он думал, что действует по своей воле, но в самом деле… всегда действовал по моей…
«И ничто, ни его жизнь, ни грубое обращение, ничто не поколебало тебя; никто даже из лучших друзей твоих не слыхал от тебя ни тени жалобы, напротив, ты в сердце своем и на языке всегда находила оправдание его поступкам.»
— Так, но в глубине сердца я чувствовала, что ничто не возбуждает столько людского участия как молчаливое страдание; жалобы на мужа не облегчили бы моего сердца, тогда как льстило моей гордости постоянно возбуждать людское сожаление! Кто ропщет, тот в половину утешен, — людям уже почти не нужно утешать его; для меня же их участие, их удивление… были неистощимы — я это знала.
«Сверх твоего мужа ты имела врагов, ты им прощала, ты не роптала, ты старалась, напротив, оказывать им услуги.»
— Но это был лучший способ не иметь врагов…
«Ты не была предана греху порицания; никогда, ни в свете, ни в дружеской беседе, ни на письме, ни словом, ни взором, ты не осуждала никого, ни ближних, ни посторонних, ни сильных, ни слабых; для всякого проступка ты находила оправдание, для всякой вины прощение.»
— Так, но тайная мысль говорила мне, что иногда одно неосторожное слово может отозваться в продолжении жизни и сотворить нам врага непримиримого; эта же мысль говорила мне, что иногда существо самое незаметное может причинить нам много вреда, тем более опасного, что оно неожиданно.
Гений снова задумался.
Между тем, душа с робостию поглядывая в страшную бездну, отделявшую ее от райских селений, с восторгом замечала, что с каждым словом гения греховные обители мало-помалу исчезали; наконец, в недосягаемой глубине от страшной бездны осталась лишь одна неприметная черная точка.
Гений, радостно улыбаясь, снова обратился к душе:
«Не унывай! — сказал он, — вспомни все доброе, оставленное тобою на земле; вспомни, что не было страдания, которого бы ты не утешила; не докукою вымаливалась твоя милостыня, ты сама отыскивала вдов, сирот, немощных, заключенных, ты делилась всем, что имела, делилась последней крохой; я знаю, ты благотворила не из тщеславия; не только свет, но сами снисканные тобою не знали твоего имени: ты скрывала свои добрые дела с таким же старанием, как другие скрывают самые злые поступки… В сем деле ты не могла иметь никаких корыстных побуждений, ибо один я знал все доброе, сотворенное тобою втайне.»