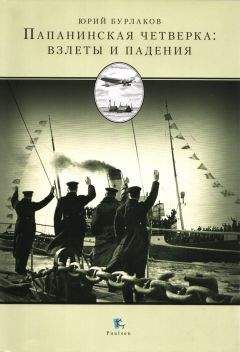Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №08 за 1978 год
Норкотт отодвинул тарелку и промокнул губы салфеткой. Девушка встрепенулась: кофе? Англичанин покачал головой: нет, спасибо. Они улыбнулись, как два сообщника. «Считает меня глупцом», — подумал Шовель. Он встал и возле вешалки наблюдал, как Норкотт расплачивается, доигрывая маленькую идиллию с официанткой.
— Очаровательная девушка, — сказал англичанин на улице. Он сделал несколько глубоких вдохов, прочищая легкие, как ныряльщик. — А теперь куда? Вы извините, что я не реагирую на ваши рассуждения. Просто, чтобы дать какой-то совет, я должен знать вашу жизнь. Пока мы еще мало знакомы.
— У меня номер в «Цеппелине».
— Я тоже ночую там. Но у меня правило — никаких бесед в отелях. Может, в парк? Здесь недалеко Шлоссгартен.
— Мне надо забрать чемоданчик, я оставил его на вешалке в кино.
— Тогда в машину.
Почти на том самом месте, где вчера стоял «опель» Фроша, Шовель увидел большой черный «Мерседес-300», весь забрызганный грязью.
— Что за картину вы смотрели?
— Шпионаж. Клоунская лента, но публика съедает ее охотно.
— Правильно. Настоящий фильм о шпионаже невозможен. Если публике показать правду, она сломает стулья. Вспомните слова Клемансо перед смертью: «Если я расскажу все, что знаю, ни один человек не согласится умирать за родину».
Они доехали до кинотеатра, потом поискали стоянку у решетки Шлоссгартена. Войдя в парк, Шовель вздрогнул — ему показалось, что за темными деревьями мелькнули какие-то силуэты. Захотелось опрометью броситься назад в город, где огни, люди, движение. Но вокруг была тишина, которой звездное небо придавало объемность.
Лицо англичанина в профиль приобрело хищное выражение.
— Начнем? Из вашего досье мне известно, что вы единственный сын в семье. Ваш отец фельдшер, сейчас на пенсии; мать — лаборантка.
Мир встал на ноги... Сын фельдшера, ставший шпионом, чье досье перелистывают посторонние, не имеет возможности предаваться паскалевским размышлениям о бесконечности.
Да. Я родился в «доме с умеренной квартплатой» на улице Камброн в XV округе Парижа. Родители провели там всю жизнь. Лишь два года назад я смог купить им крохотный домик возле Ментоны на Лазурном берегу. Сам я прожил на улице Камброн до двадцати шести лет. Дешевая постройка с тонкими перегородками, шумными соседями и поющими водопроводными трубами.
Большинство жильцов — мелкие служащие, лавочники. Кстати, жизнь «белых воротничков» куда безрадостней жизни пролетария в спецовке. Они так же бедны, как рабочие предместий, но полны буржуазных претензий. Вечный страх «манкировать» окружающим, патетическая потребность блефовать перед соседями... Мои родители были несколько иными. В доме были книги, репродукции. Жизнь скромная, дисциплинированная и... как бы это сказать... сплоченная. Я обожал родителей, а они меня.
— Словом, ваше детство протекало счастливо.
— Да. После сдачи экзамена на бакалавра, в шестнадцать лет, надо было выбирать карьеру. Родители мечтали, чтобы я стал врачом. Но пример отца никак не вдохновлял меня — заниматься паралитиками и старческими немощами, нет, увольте. Я решил поступать в Высшую школу политических наук.
— Вот как!
— Двое приятелей, задававших тон в классе, собирались туда. Ну и мне не хотелось отставать... В школе сразу начались неприятности.
— Догадываюсь, — отозвался Норкотт. Он заговорил жеманным тоном сноба: — «Дорогой мой, кем вы приходитесь послу Жану Шовелю?»
— Точно, — Шовель криво усмехнулся. — Я все время чувствовал себя надевшим чужую личину. Впрочем, однокашники так и смотрели на меня. Какое право имеет сын фельдшера носить фамилию посла Французской республики! Наши мальчики и девочки вели разговоры о людях и местах, мне неведомых. Я был одинок. Вернее, я был никем.
— Это не привело вас к анархизму?
— Нет. Родители как чумы чурались политики. Они даже отказались от второго ребенка, чтобы я рос без ущерба. И я не мог огорчить их, дав себя вовлечь в пустопорожнюю болтовню. У них было тщеславие... наивного свойства. Они принимали общество как оно есть и желали лишь, чтобы я занял в нем «достойное» место. В идеале они видели меня на верхушке пирамиды, но таким же простым и неиспорченным. А я... я был тщеславен. В классическом французском духе — Растиньяк и все такое. «Париж у ног!» Иными словами: общество мерзопакостно, мужчины продаются ради успеха, женщины — ради прочного положения, и я тоже хочу денег, удовольствий, власти и готов пойти ради этого на все... Но внешне я оставался пай-мальчиком. В ожидании, когда я смогу начать свою игру, оставалось трудиться. Трудиться усердней других... Война в Алжире не изменила моих позиций. Я не участвовал в боях, я был лишь офицер-наблюдатель, выпускник привилегированной школы» Годичный срок я кончил с двумя медалями, которые украсили мою биографию, как спортивные титулы — моих богатых однокашников. Ракетка, парус и лошадь были мне недоступны... Я вернулся, преисполненный уверенности, и выдержал труднейший конкурс в ЭНА, третьим в экзаменационном списке.
В конце аллеи Шовель остановился, в недоумении глядя на блеклое зарево над городом. Увлекшись воспоминаниями, он совсем забыл, где находится.
— Я вас не очень утомил?
— Напротив. Я выслушал прекрасный, хотя и несколько технократический анализ прошлого. Вы излагаете сложную проблему — а что может быть сложней человеческой жизни, — как деловой вопрос. Пункт первый, второй, третий... выводы, заключение.
— Я не только рассуждаю, как технократ, я и чувствую технократически. И потом, я ведь француз. Меня воспитали на культуре, изгоняющей все иррациональное. Наша страна за четыре столетия преуспела в искусстве рационального анализа — взгляните на нашу математику или литературу. Как меня учили в лицее: «Это неясно, следовательно, не по-французски».
— Гёте говорил: «Ясность — это верное распределение света и тени».
— Но Гёте был немецким романтиком. Когда Франция начинает сомневаться в себе — а обычно это бывает после крупного поражения, — она попадает под немецкое влияние: романтизм, психоанализ, экзистенциализм. Но это не отражается на национальном характере. Не случайно ни психоаналитики, ни экзистенциалисты не в силах объясняться по-французски, им приходится вымучивать жаргон, который большинство людей не в силах понять. Пример тому — я.
Шовель передернул плечами.
— Вот почему мне не по себе в этом городе. Я чувствую тошноту сартровских героев. Романтические кошмары отдаются во мне несварением желудка. Бр-р!
— Ну-ну, в Штутгарте жить приятней, чем в Париже. Люди приветливее, девушки свежей, спорт доступней, а расстояния меньше.
— Может, летом я бы чувствовал себя по-другому. Обещаю вернуться сюда... если только штаб-оберст Хеннеке не прикончит меня до этого.
Норкотт слегка дотронулся до его руки.
— Надеюсь, сообща мы найдем решение. Только вам придется отделаться от французской привычки все делить на четкие параграфы. Декарт подложил вам хорошую свинью! Рассудочность — химера. Ну, представьте, кто может похвастать, что имеет четкие и ясные представления о сексуальности?
Шовель рассмеялся. Норкотт обладал удивительным умением разряжать обстановку.
— Хорошо, я продолжу жизнеописание. Итак, я прошел в ЭНА. Атмосфера здесь была иной. В школе политических наук были в основном юные буржуа, гнавшиеся за синекурами, и девушки, охотившиеся на мужей. Конкурс в ЭНА отметал любителей. Здесь люди должны были обладать достоинствами.
— Будущие меритократы?
— Именно. И их оценивали по способностям. Они могли получить визу в касту руководителей, могли породниться с влиятельной фамилией. Причем в этом деле заметен прогресс: сейчас уже не нужно очаровывать родителей, дочери выбирают сами, хотя лично я не знаю ни одного брака в этой среде без согласия родителей. Задача состояла в том, чтобы познакомиться с такими девушками, а это нелегко.
— И вы не женились?
— Совершил серию банальных ошибок. Я целил слишком высоко и не смог поэтому верно оценить психологию девушки, которая в двадцать три года владела собственной квартирой в доме, принадлежащем родителям, на авеню Мессин, гардеробом от Сен-Лорана и «ягуаром» по индивидуальному заказу.
— Как ее звали?
— Женевьева. Я промахнулся, как промахивается большинство неимущих молодых людей при встрече с подлинной роскошью. Женевьева была умна, более того — проницательна. Вовсе не балованный ребенок, заявляющий с победным смехом: «Представляешь, я сегодня ехала на метро!» или: «Я записалась к маоистам — пусть-ка папаша побесится!» Нет. Она очень тактично избавляла меня от необходимости тратить деньги. Ужинали мы у нее или ее друзей. В барах и дансингах, куда мы ходили, ей полагалась за счет отцовской фирмы бутылка виски. Билеты в театр или концерты заказывал личный секретарь отца.