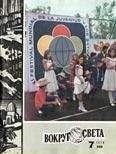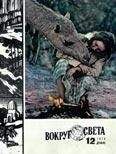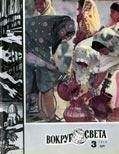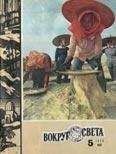Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №11 за 1978 год
Для того чтобы прошить первую нашву, потребовалось полтора дня. Но потом работа пошла быстрее. Геннадий Федорович успокоился, ведь он шил вицей впервые в жизни, но получалось лучше и крепче, чем он ожидал.
И тогда рассказал он такую историю.
Его отец — Федор Федоровский — плавал до войны старшим на карбасе, построенном братом — Филиппом Федоровским, знаменитым в Поморье мастером карбасных дел. Однажды возвращался Федор на своем карбасе с лова камбалы в Мезенской губе Белого моря вместе с десятком карбасов, но все они были разбиты на пары — поморы всегда ходили в море парами карбасов для взаимной выручки. Был отлив. Встали на якоря в устье Кулоя, чтобы дождаться прилива и пойти в деревню с прибылой водой. Когда кончился прилив, все карбасы снялись с якоря и пошли на парусах вверх по Кулою в Долгощелье, до которого оставалось километров тридцать. У Федора якорь за что-то зацепился, и достать его никак не удавалось. Карбас-напарник ждал. В те времена якорь был большой ценностью, и бросать его не хотелось. Тянули, тащили, в конце концов счалили два карбаса бортами, сняли мачту и, используя ее как ворот, медленно вытянули якорь. Потом поставили мачту, паруса и пошли в Долгощелье. К этому времени остальные карбасы уже скрылись из виду. И все же в деревню Федор пришел первым, обогнав односельчан на 30-километровом отрезке. С этого-то карбаса — самого походного в деревне — и снял Геннадий шаблоны, которые сейчас стояли на киле.
А. Николаевский, наш спец. корр.
Скачи, добрый единорог
«Возьми три фупта свинцу да два фунта олова и сожги оные вещи в пепел, которого после возьми 8 мерок, 4 мерки жженого голышу да 4 мерки соли. Потом все оные вещи стопи вместе, то получишь весьма изрядную поливу...»
Я листаю древний фолиант «Открытие сокровенных художеств и прочее» за 1768 год и удивляюсь: вот они, утраченные секреты русского поливного изразца, о которых еще недавно сокрушались искусствоведы.
А здесь, пожалуйста, черным по белому: «возьми три фунта свинцу...» В недоумении смотрю на обладателя редкостной книги, ярославского керамиста Алексея Алексеевича Егорова.
— Возьми все и сделай так, как здесь сказано, — улыбается мастер, — и «изрядной поливы», то есть состава, которым покрывается, изразец ...не получишь! Знаю, все перепробовал. Это ведь только непосвященному все ясно. Взять хотя бы меры: тут ведь речь идет о фунтах, лотах, золотниках, гранах — по старинке. Казалось бы, ясней ясного — переводи в граммы да отвешивай. Ан нет! Фунт-то, он разный бывает — русский, английский, немецкий, а есть еще особый — аптекарский, все они по весу разные. Попробуй узнай, какой имел в виду автор...
Речь у Алексея Алексеевича окатная, быстрая, он словно боится, что не успеет договорить что-то важное, до чего сам доходил в муках и сомнениях.
— Или вот про голыши в рецепте говорится, про камушки прозрачные. Их толкли раньше, чтобы кварцит получить для глазури. Так голыши эти в каждой деревне разный состав имеют — иной и оттенок изразцу дают. А самое главное, про это книжки и вовсе молчат, — техника обжига. Тут ведь каждый градус, каждая минута решают: один и тот же состав полива при разном режиме обжига может дать цвет от белого до темно-серого. Рецепты эти — что шифр без ключа. И если сердце себе не опалишь вместе с изразцами, секрета не откроешь, души его не почувствуешь...
Крепкую загадку загадал изразец художникам, решившим воскресить забытое искусство. Но на то ведь и есть русская земля, чтобы рождались на ней упрямые мастера. Многое должно было сойтись воедино в человеке, чтобы покорился ему изразец: талант, трудолюбие, фанатичное горение души. Ничто не выдает в Егорове этих черт, когда видишь его вне мастерской, разве что упрямые складки на лбу, но и те почти скрыты русым чубом. Слава лучшего в стране мастера не коснулась его облика, простого рабочего костюма, образа жизни. Судьба вела Егорова путем прямым, кратчайшим и единственным, иначе человеческой жизни не хватило бы на то, что он успел. Работа на Первомайском фарфоровом заводе (на этом заводе делали до революции знаменитую «кузнецовскую» посуду), познание всех тонкостей фарфора и фаянса, учеба в художественно-ремесленном училище, историческая, искусствоведческая и техническая подготовка в лаборатории керамики у крупных московских специалистов С. В. Филипповой и И. Г. Захаровой, самостоятельная работа в Ярославских специальных научно-реставрационных производственных мастерских.
Когда ровно двадцать лет назад Алексей Егоров впервые переступил порог мастерской, располагавшейся тогда в Ярославском кремле, там уже колдовал над первыми пробами поливного изразца мастер А. В. Богатов. Керамическое отделение только-только возникло: реставрацию многоцветного узорочья ярославских зданий XVII века решено было начать силами собственных мастеров.
Наверное, это символично, что именно в этом городе, где в конце XVII века искусство русского изразца пережило последнюю яркую вспышку, ему суждено было возродиться спустя триста лет.
Истоки возникновения архитектурной керамики проглядываются еще в ранних цивилизациях Древнего Востока. Вавилонская башня согласно преданиям сверкала радугой глазурованного кирпича. Истоки нашего изразцового искусства — в древнем Киеве X—XI веков, старой Рязани и Владимире XII века. И само слово «изразец» тоже из старины: от слова «образить», то есть украсить. Это не просто плоская плитка, ее архитектурную принадлежность выдает специальный глиняный выступ — румпа — для крепления на стене. Татаро-монгольское иго почти оборвало нить этого искусства на Руси. И второе рождение оно получает вместе с поднимающимися из руин городами где-то в XV веке. Изразец возрождается робко, еще не как самостоятельное искусство, а как «дублер» белокаменной резьбы, повторяя поначалу декор камнерезов. Цвет пришел в русскую архитектурную керамику уже в XVI веке, заявив об огромных своих возможностях на главном куполе храма Василия Блаженного, зданиях в Дмитрове, Старице. XVII век — золотая пора изразца. Богатым нарядом одеваются дома и печи Москвы, Ярославля, Вологды, Великого Устюга, Мурома, Загорска. Время сохранило имена лучших мастеров — Игнатий Максимов и Степан Иванов по прозвищу Полубес.
Петр приказывает переиначить русский изразец на манер голландских кафлей, для чего выписывает мастеров из-за границы. В окраинных городах, ремесленных слободках — вдали от царева ока — еще изготовляют традиционные изразцы, но это уже закат самобытного искусства. Правда, даже в изразцах, сработанных по иностранному подобию, русские мастера сумели-таки передать свое видение мира, окружающих вещей, природы, но техника ремесла, его секреты стали уже иными.
...Покуда шли ученые опоры о степени восточного или западного влияния на русский изразец, о том, почему в истории его развития обнаруживаются вдруг провалы в несколько десятилетий, откуда пришел в Москву зеленый — «муравленый» изразец, Егоров несколько лет не отходил от муфельной печи. Сейчас уже не сосчитать, сколько тысяч сочетаний веществ перепробовал он за эти годы, сколько обжег пробных глиняных дощечек, приближаясь к сокровенной тайне изразца. И вот теперь мастер может доподлинно воспроизвести керамический декор ярославских церквей.
В 1961 году Государственный исторический музей заказал ему печные изразцы для боярского дома на улице Разина в Москве и Софьиных палат Новодевичьего монастыря.
— Московские печи стали для меня боевым крещением, — Алексей Алексеевич открывает шкаф, на полках которого громоздятся пачки общих тетрадей. В них рецепты тех изразцов.
Я просматриваю тетради, испещренные записями — тысячи формул, по которым обжигались пробы, чтобы в результате осталась одна, правильная. Свинец, олово, сурик, полевой шпат, кварцевый песок, мел, каолин, соль, сода, поташ, бура. И все в миллиграммах. И все эти поиски только для того, чтобы найти состав поливы одного цвета! А цветов в русском изразце пять — белый, желтый, синий, зеленый, коричневый. И не счесть оттенков.
— Раз уж разговор про цвета зашел, — говорит мастер, — то хочу один вопрос прояснить, а то нередко приходится слышать о том, почему изразцы на Руси не столь ярки, как, скажем, в Средней Азии. Мол, краски у нас в природе приглушенные, все больше коричневато-зеленоватые. А на Востоке — там солнце ярче, небо синее, потому и бирюза на плитках — глаза обожжешь... Это совсем неверно. Дело тут не в солнце, а в свойстве материалов. Ведь испокон веку мастер подбирал материалы, которые между собой дружат. Вот и восточные керамисты приметили, что на лессовых, богатых калием глинах, которые преобладают в Средней Азии, хорошо держатся эмали и глазури. А на их основе окиси меди и кобальта как раз и дают яркие голубые и синие тона. Наши же русские глины большей частью красные, богатые железом. На них лучше держатся глазури и эмали, богатые свинцом и оловом, на которых те же самые окиси меди дают не голубые, а зеленые тона, синий же цвет выходит блеклым. Вот и вся недолга.