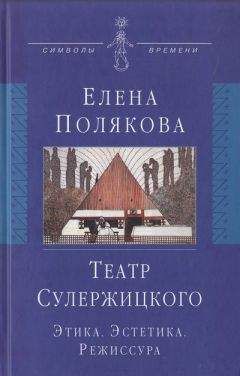Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 10
Километрах в ста пятидесяти к северу от Праги, в Судетских горах, стоял небольшой городок, вернее сказать, шахтерский поселок Кадан. В горах добывали бурый уголь. Когда его запасы иссякли, шахтеры покинули городок. Вот там-то студия «Баррандов-фильм» и снимала многие эпизоды из фильма «Освобождение Праги».
На другой день нас предупредили, что сегодня будут снимать эпизод, связанный с ночным боем. И участником этого эпизода был мой персонаж. Мы с чехом-ассистентом выехали из Праги в середине дня. Стояла ранняя весна. Шоссе на север было широкое, свободное. Светило солнце. Окрестные поля зеленели всходами хлебов. По ним тут и там спокойно паслись дикие олени и лани. В придорожных кустах гонялись друг за другом совершенно ошалевшие от безнаказанности и весеннего воздуха зайцы. Иногда они выбегали на середину шоссе и в горячечном темпе судорожно занимались любовью. В такие моменты движение на трассе замирало.
По прибытии на место мне выдали листки с напечатанной ролью, подобрали костюм полковника-танкиста, и я пошел знакомиться с экипажем танка, с которым на эту ночь мне предстояло делить боевую судьбу. Смысл эпизода, в котором я участвовал, заключался вот в чем: в маленьком чешском городке отряд немецкой зондеркоманды во главе с офицером расстреливает группу местных повстанцев. В это время в городок врывается с боем группа советских танков. Полковник-танкист (моя роль), увидя все происходящее, с гневом высказывает офицеру — командиру зондеркоманды — всю преступную бессмысленность подобной акции. Война-то, собственно, уже закончена! Немецкий офицер стреляется. Вот такой, если вкратце, немудрящий эпизод.
Стемнело. Пора было начинать репетицию. Наконец взлетела сигнальная ракета. И, Бог мой, что тут только началось! Даже во время войны этот городок не испытывал, мне кажется, таких боев! Ухали танковые пушки. Взрывались учебные взрывпакеты. Строчили пулеметы. Пехота поливала улицы автоматными очередями. Метались лучи прожекторов. А от того, что все патроны, начиная от пушечных и кончая автоматными, были, как вы сами понимаете, холостыми, грохот в узких городских улочках стоял оглушительный.
Водитель «моего» танка подвел его к заранее обговоренной черте. Я кое-как с непривычки выкарабкался по пояс из узкого люка и увидел такую картину: десятка полтора трупов в гражданской одежде, залитых кровью, лежало на мостовой. (Естественно, это были муляжи. Но на вид как настоящие!) А над ними в таком же количестве стояли немецкие солдаты во главе с их командиром. Руки немцев были подняты вверх, головы — виновато опущены. Я «выдал» офицеру весь накопившийся во мне праведный гнев, он под тяжестью моего монолога подносит «парабеллум» к виску. Выстрел. Офицер падает. Игровой эпизод окончен. Взлетает еще одна ракета, и на городок наконец падает долгожданная тишина.
В свете танковых фар видны были две кинокамеры, «юпитеры» и многочисленная съемочная группа во главе с режиссером Варвой. Он стоял, окруженный свитой участников съемок. Был он среднего роста, плотный, в темных, несмотря на ночное время, очках, в мятом берете и с массивной тростью, кончиком которой он время от времени постукивал по гусеничным тракам.
Разговор в группе был хоть и почтительным, ввиду присутствия режиссера, но бурным. Я, торча в люке, ничего не понимал из него, но, судя по всему, обсуждались достоинства и неувязки прошедшей репетиции. Рядом с Варвой стоял какой-то маленький, сухонький наш генерал в военном плаще с генерал-лейтенантскими погонами. Он молчал, как будто все происходящее вокруг его не касалось. «Наверное, военный консультант», — подумалось мне. И точно. Через какое-то время Варва обратился к нему с вопросом. Переводчик тотчас же любезно перевел:
— Что скажет товарищ генерал по поводу только что им увиденного?
Генерал помолчал, как бы собираясь с мыслями, и коротко, по-военному ответил:
— Все враньё.
Переводчик тут же перевел в обратную сторону: «Все враньё». В окружении прошелестело по-чешски: «Все враньё», «Все вранье». Повисла пауза. Я затаил дыхание. Наблюдать подобные спектакли для меня — высшее творческое наслажденье!
Варва помолчал, повозил тростью по мостовой и задал генералу новый вопрос. Ситуация была настолько понятной, узнаваемой, что я без переводчика понял содержание вопроса, но тот все-таки тотчас разгладил его перед генералом:
— А что надо сделать, чтобы походило на правду? Как это было бы в действительности?
Тут генерал не стал брать паузу и заговорил сразу:
— Как было бы в действительности? А вот как!.. Высовывается он из люка, — палец генерала, как указка, ткнул в мою сторону, — видит все это безобразие, — рука мотнулась в сторону раскрашенных муляжей и стоящей немецкой шеренги, — и сразу же возникает логичный вопрос: что делать? Ситуация ясная: убитые на земле, убийцы на месте! Какие действия нашего полковника? А вот какие: правая рука его, — снова кивок в мою сторону, — ныряет в люк, там кто-то из экипажа дает ему автомат, и он всю эту сволочь в шеренге без единого слова, начиная с офицера и кончая стоящим на левом фланге, одной длинной очередью укладывает на мостовую рядом с повстанцами! Коротко и ясно!
С последним словом переводчика наступает мертвая тишина. Все замерли. Варва, казалось, позабыл про свою трость. Он долго молчал, но наконец нашелся:
— Но… это не гуманно…
«Это не гуманно…», «не гуманно…», «…гуманно…», — вслед за переводчиком пронеслось в окружении режиссера.
— А-а-а, — протянул генерал. — Ну… если не гуманно — врите дальше.
«Врите дальше», — повторил переводчик, стараясь подражать спокойному тону генерала.
Генерал достал сигарету и не торопясь стал вставлять ее в длинный янтарный мундштук. Фамилия генерала была Фомичев. Это его танковый корпус, уже после капитуляции Германии, сумасшедшим броском из поверженного Берлина рванул на юг в помощь восставшей Праге. Эти танки да одна из примкнувших к пражским повстанцам власовская дивизия помешали немцам сделать из древней столицы Чехии то, что они в сорок третьем сделали с восставшей Варшавой. Один из танков этого корпуса в те годы гордо высился на пьедестале на одной из городских площадей Праги как символ бескорыстного мужества и самопожертвования. Командовал им лейтенант Гончаренко. Так он и вошел в историю, как «танк Гончаренко». Где-то он теперь, знаменитая «тридцатьчетверка»? Может, благодарные пражане на швейные иголки переделали? Все-таки сталь качественная… Но это так… к слову.
Эпизод отсняли по тому варианту, какой был заложен в сценарии. Управились в два дубля. Два раза я говорил свой монолог. Два раза стрелялся немецкий офицер. Расстрельная команда два раза стояла с поднятыми руками. Режиссер Варва остался доволен съемками. Он тепло простился с нами. Мне вручили конверт с гонораром, угостили кофе с ромом и… можно было считать себя свободным.
В Прагу я ехал в одной машине с генералом Фомичевым. Шоссе было пустынным. С востока через Судеты наползал рассвет. Я сидел на заднем сиденье. Спать не хотелось. Кофе, ром и перипетии ночного «боя» высоко подняли планку моей бодрости. Хотелось разговора. Я осторожно напомнил генералу его слова, сказанные им во время репетиции, о том, что немецкую «расстрельную» команду нужно было уложить тут же, на месте.
— Вы действительно так думаете?
— А что ж на них, Богу молиться? Тут как в Библии: око за око, зуб за зуб. А как: собственноручно нажать гашетку… или как по-другому… тут уж как душа подскажет. Лишняя кровь тоже ни к чему. В той же Праге, помню, разоружили мы четыре власовских дивизии. Ну, стали разбираться, кто был за кого… Кто, значит, чехам помогал, кто за немцев до последнего стоял. Выявили «смершевцы» самых отъявленных. Десятка три набралось. Начальство мне говорит: «Фомичев, ликвидируй их». Я подумал: «А чегой-то я своих ребят кровью стану мазать? Война-то закончилась». Ну, значит, посмотрел я на этих власовцев, выбрал двоих из них, у которых морды понахальнее, сунул им в руки автоматы и говорю: «Пустите в расход своих — живы будете».
— И они… пустили?
— А куда ж им деваться?
— А им, этим двоим, что?..
— А эти живы остались. Слово держать надо… Прикладами по загривку и в лагеря.
— Сурово!
— А война вообще штука суровая. Помните Андрея Болконского из «Войны и мира»?.. Вот то-то…
И под шелест шин мы стали раскручивать в разговоре эту извечно болезненную тему: о человечности на войне.
— Если есть возможность на войне проявить снисходительность к противнику — отчего ее не проявить, — говорил генерал, и видно было, что тема эта для него небезразлична.
— Но! — он сделал паузу и повторил: — Но! Только в том случае, если эта снисходительность не во вред приказу и боевой необходимости. Дружба дружбой, а табачок врозь.