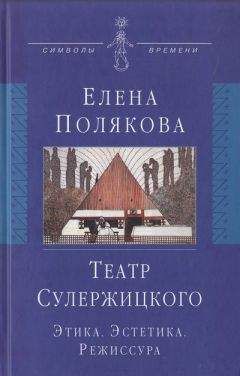Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 10
— Спектакль средний. Больше всего мне понравилась роль Миши в исполнении Пенькова.
Как педагог, он не высказал этого мне лично, и тем дороже была эта короткая, скупая поддержка Миши-второго Мишей-первым.
Спектакль продержался несколько сезонов и благополучно ушел в небытие. Последующие затем два спектакля, где я сыграл «большие» роли, были «Иду на грозу» по Д. Гранину и «Я вижу солнце» по повести Нодара Думбадзе. Работались они один за другим, как говорится, дышали друг другу в затылок и увидели свет в том же счастливом для меня сезоне шестьдесят третьего — шестьдесят четвертого годов.
«Я вижу солнце» выпускала «грузинская бригада». Постановщиком был замечательный человек — режиссер из Тбилиси, главный режиссер театра имени Руставели Дмитрий Александрович Алексидзе. Невысокого роста, плотный, с крепко посаженной головой, с неиссякаемой энергией и темпераментом, он, казалось, выстраивая спектакль, скреплял его составляющие своим потом и кровью. Он походил на сталевара, выплавляющего в мартеновской печи сталь особой, редкой марки.
Мы с Ниной Гуляевой играли главных героев: Нодара и Хатию, двух подростков, с детства влюбленных друг в друга. Когда у Дмитрия Александровича не хватало обычных слов для замечаний во время репетиции, он яростно кричал мне:
— Люби ея (имея в виду Нину Гуляеву)… люби ея, сволочь!
И я любил. Художником спектакля был И. Сумбаташвили, музыку писал Р. Логидзе. На премьеру спектакля приехало пол-Тбилиси. Или, вернее, «весь Тбилиси». Зал «дышал» и взрывался аплодисментами в нужных и ненужных местах. Банкет, конечно, был в «Арагви». Бочонки с «кахетинским», привезенные с места произрастания знаменитой лозы, водружались на столы. Грузины привезли даже своего тамаду, элегантного мужчину в белом костюме и наголо бритой головой. Банкетный шум с каждой минутой набирал силу и крепость, через открытые окна вываливался на Coвeтскую площадщь, заставляя нервно вздрагивать чуткие уши коня Юрия Долгорукова.
* * *Репетиция на сцене Художественного. В темном зале за столиком, точечно освещенном настольной лампочкой, — режиссер. Все его внимание там, на сцене. Тихо, на цыпочках, подходит секретарь дирекции.
Секретарь:
— Борис Николаевич, вас просят после репетиции зайти в художественную часть (комната руководства).
Борис Николаевич (без паузы):
— Интересно, как это художественно ЦЕЛОЕ может зайти в художественную ЧАСТЬ?
Художественное ЦЕЛОЕ — народный артист СССР Борис Николаевич Ливанов.
Вспоминается: середина пятидесятых, Хабаровск, летний армейский клуб, мы, солдаты, смотрим новый фильм «Адмирал Ушаков». Ощущение от увиденного на экране было настолько сильным, что после заключительных титров никто не захотел уходить, и мы уговорили клубное начальство тут же прокрутить картину вторично. Все было прекрасно в фильме: и сюжет, и батальные сцены, и игра актеров. И, конечно, Потемкин! Князь Потемкин Таврический! Даже теперь, по прошествии стольких лет, не поднимается рука написать: в исполнении Ливанова. Это было какое-то волшебное соединение, слияние актера и персонажа в единое целое. Когда исторический портрет Потемкина заслоняется историческим образом, воссозданным гением актера. Повторюсь, все играли замечательно, но Ливанов!.. В этой роли он нарушил общепринятую, ожидаемую МЕРУ. Он как бы переступил ту невидимую черту, которая отъединяет жизнь от ее воссоздания. Для многих актеров черта эта является запретной, переступив которую единожды, в момент душевного взлета, они забывают обратную дорогу и на всю жизнь остаются пленниками ОДНОЙ РОЛИ. К Ливанову это опасение не имело никакого отношения.
— Читай, милый, читай! — до сих пор слышится голос Бориса Николаевича — Потемкина, в момент хандры понукающего ошалевшего чтеца Четьи-Минеи. — Читай!
Современные роли были мелки для Ливанова. Он рвал их, как крупный шершень рвет паутину, сотканную пауком для мух. Как мог, он «укрупнял» их, но они все равно рассыпались под тяжестью его неуемного таланта. Митя Карамазов — это да! Это для него! Егор Булычов, рыжий, в красной рубахе — это его образ! А вот роль председателя в какой-то мелкотравчатой пьесе под названием «Хозяин» — ну что это? На лацкане коричневого пиджака Звезда Героя, опирается вместо палки на шашку(!) и пытается говорить «деревенским» языком: «ходють», «смотрють», «ядять». Не искусство, а прямо-таки какая-то вынужденная дань Золотой Орде. Не думаю, что тут имело место принуждение «сверху». Скорее то было самопринуждение: мы тоже не отстаем от нашей прекрасной действительности! Не одному же «Современнику» современничать!
Три года (год будучи студентом), бессловесный, я простоял за спиной у Бориса Николаевича с обнаженной шашкой на плече в картине суда над Митей в его спектакле «Братья Карамазовы» по Достоевскому. Три года слышал его трагический выкрик в финале: «Клянусь Богом и Страшным судом Его, в крови отца моего не виновен!»
И вот в конце шестьдесят пятого творческая судьба напрямую свела меня с этим человеком. Ливанов берет в работу пьесу Льва Шейнина «Тяжкое обвинение», где главную роль следователя предназначает мне. Сюжет пьесы прост. Белые расстреляли красное подполье, но при этом, по непонятным причинам, оставили жизнь одному молодому человеку. Каким-то образом дело это выплыло в наши дни (пролитая кровь показывает себя в самое неурочное время), и теперь уже немолодому человеку грозят большие неприятности. В распутывании этой непростой истории и принимает участие мой герой. Роль написана несколько казенным языком, имела (на этот счет я не обольщался) соединительные функции, вроде нитки ожерелья, на которую нанизывают бусины. Но для Бориса Николаевича никакой «нитки» не существовало.
— Понимаешь, Коля, — говорил он, покусывая верхнюю губу и глядя мне куда-то поверх бровей, — это следователь новой формации! Таких следователей еще на сцене не было! Тут наш гениальный автор (поворот головы в сторону Шейнина) сказал новое слово в драматургии. (Лев Романович покаянно кивает головой: сказал, сказал…)
— А главное, Коля, — в голосе Бориса Николаевича появляются заговорщицкие нотки, — я пропущу через тебя всех наших «стариков». Твоя задача — справиться с ними. Не дать растащить спектакль по частям. Они же гении! Справишься?
И по его радостно-лихорадочному блеску в глазах я понял, что основное его усилие, основной упор будет сосредоточен именно на «стариках», которые проходят по пьесе в качестве свидетелей. И они прошли! Это был, без преувеличения, парад талантов! Вот тут Лев Романович постарался выписать их роли с тщанием ограненного бриллианта. И при безграничной фантазии режиссера «старики» вылепили свои образы с такой филигранностью, что я внутренне только ахал от восхищения, наблюдая их удивительное мастерство. А. К. Тарасова, Б. А. Смирнов, А. Н. Грибов, С. К. Блинников, М. И. Прудкин, А. П. Георгиевская, М. П. Болдуман, А. В. Жильцов, Е. Н. Ханаева, — Борис Николаевич остался верен своему слову, всех их он «пропустил» через меня. Глядя иногда во время спектакля, как «работают» Прудкин или Георгиевская, я забывал произносить свою реплику. Сейчас молодые актеры, играя со мной, тоже иногда забывают текст на сцене. Неужели по той же причине?
Тонкостям новой для меня театральной профессии следователя щедро делился со мной Лев Романович Шейнин. Бывший главный следователь прокуратуры (кажется, так) СССР, больше четверти века «отпахавший» в органах, он, казалось, все знал, что происходило в преступном мире — как в центре, так и на его окраинах. Ему были ведомы тонкости психологии людей, переступивших нравственную черту, тайные извивы души, следуя которым человек совершает то или иное преступление. А уж о следовательских буднях он, казалось, знал все и даже чуть больше. В работе над спектаклем мы подружились со Львом Романовичем. После репетиций он часто приглашал меня к себе на квартиру. Для беседы. Ну и, конечно, как во всяком хлебосольном доме, приправой к разговору служила непременная дегустация домашних настоек, изготовлять которые Лев Романович был большой мастер. Художник! Здоровье не позволяло ему побаловать себя изделиями рук своих, и с тем большим усердием он угощал меня.
— Попробуй, Коля, вот это, — вкусно говорил он хрипловатым голосом, доставая откуда-то из-под шкафного спуда очередную бутылку, завернутую в черную, светонепроницаемую (обязательно!) бумагу.
— Лечебная. Рецепт моей покойной бабушки. Хороша? — интересовался он, следя за изменением моего лица.
Настойка была выше всяких похвал.
— А теперь попробуем эту… На золотом корне… А это — калган…
Наступало время возвышенного состояния души. На столе появлялся кофейник, чашки. И начинались рассказы Льва Романовича, которые по разным причинам не вошли, или, вернее, никогда не войдут в очередной том его сочинений.