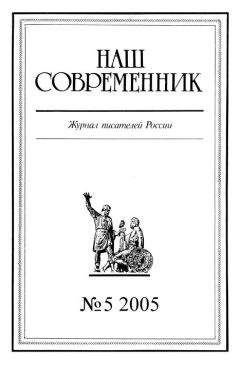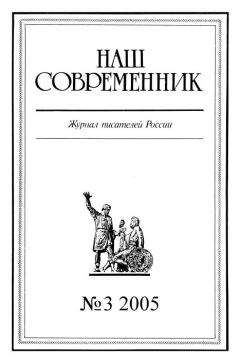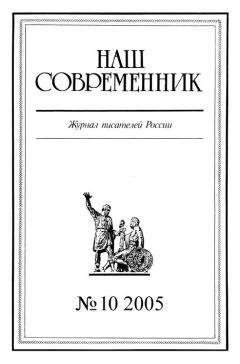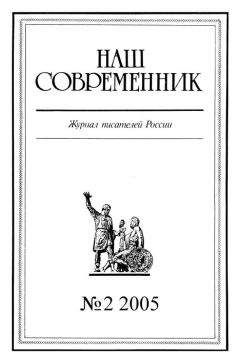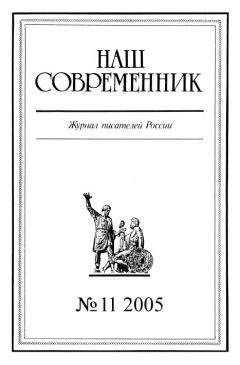Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 12
— Вот что, Ильич, наливай-ка, брат, по второй. Сейчас обсудим.
Они снова выпили, крякнули и «подсластились» сгущёнкой с хлебом.
— Теперь слушай. — Конев положил кулаки на стол, наклонил голову и строго, вроде бы даже зло, заявил: — Эвакуация отменяется. Через два-три дня возьмём Калинин. Обязательно возьмём, чёрт побери! Тогда фронт отодвинется от твоего Бежецка километров, думаю, на сто. А там и дальше фрица погоним, не сомневайся! В войне перелом наступает: Москвы им больше не видать ни в какие бинокли. А семью советую отправить, от греха подальше, куда-нибудь в глубинку, в деревню. Сам-то, чую, деревенский ты?
— Да, верстах в пятнадцати от города, в Высочке, родня живёт. Рядом село Градницы, дети смогут в школу ходить. Там я, кстати, до райкома кооператором начинал.
Сердце учащённо забилось: ведь я услышал военную тайну. И её доверили моему отцу!
— Не дрейфь, — сказал, вставая из-за стола, генерал. — Моё слово твёрдое, как приказ товарища Сталина. А ребятишки, ты прав, пускай в сельской школе поучатся. Ты сам-то, небось, как и я, ЦПШ закончил?
— Угадали, — засмеялся отец. — Полный церковно-приходской курс. А вот дальше учиться пока не получается. Ну, а что если по третьей?
— Стоп. — Конев закрыл стакан ладошкой. — Спать, спать! Утром рано мне на передовую, тебе в райком. Бывай!
Они молча вышли. Отец проводил гостя и тут же вернулся, а я нырнул в свою кроватку. Сердце колотилось, отдавая в виски. «Калинин на днях возьмут! Немцев погонят!» Счастливый, я крепко сомкнул глаза и ушёл в какой-то светлый, радостный сон.
…Высочёк — маленькая тихая деревушка, утонувшая в глубоких снегах. Вдали у окоёма тёмно-зелёная полоска соснового бора, а слева от дороги — спящее подо льдом болото, на котором там и сям торчали невысокие берёзки и сосенки. Мама сказала, что осенью здесь берут клюкву (так и сказала: «берут» вместо «собирают», и был в этом какой-то глубокий, неясный смысл). Вдоль этого болота, потом тёмным лесом и начали мы с сестрёнками ходить в Градницкую семилетку.
Только через годы и годы узнал я, что школа наша до революции была первым семейным домом поэтов-молодожёнов — таинственно прекрасной Анны Ахматовой и блистательного рыцаря слова Николая Гумилёва. А мы из Высочка — пешочком шесть туда, столько же километров обратно по морозцу. Красота! Да вот только одного я так за всю жизнь и не понял: почему мы, первоклашки, должны были ходить на занятия во вторую смену? Денёк-то маленький, как детский кулачок. Домой идём уже в сумерках (нас всего-то пятеро-шестеро), смеёмся изо всех сил, а самим страшно, сердце сжимается: а ну как налетят волки, да и разорвут нас, беспомощных, на части. Сколько раз ночами слышали мы сквозь двойные зимние рамы леденящий душу, тоскливый нескончаемый волчий вой…
Незаметно пробежали короткие декабрьские денёчки, и вот он, совсем уже рядом Новый, 1942-й год. Пора в лес за ёлочкой идти. Только как до настоящего, большого леса добраться? Лыж нету, одни только саночки в нашем распоряжении. А снега — по пояс. И потащились мы на ближайшее болото, где одни только озябшие берёзки да чахлые сосенки.
— Хотя б одна кака заваляшшенька ёлочка попалась! — вслух мечтает бабушка, с трудом таща за собой санки. Мне уже жарко, сердце колотится, ноги подгибаются — тяжело ходить пешком по глубокому снегу.
— Всё, внучок, рубим сосенку, — решительно заявляет бабушка. — Вот эта, пушистенька, как раз подойдёт!
Бабушка отвязывает от санок топор, пробивается к сосенке.
— Ба-а-а, — жалобно тяну я. — Может, всё-таки ёлочку найдём? Ну что за Новый год под сосной?
У меня в носу начинает першить, глаза становятся сырыми — то ли от пота, то ли от обидных слёз.
— Будет тебе! — строго отвечает бабушка. — Глянь, пёс тя дери, какие сугробы! Утонем, неровён час, измучаемся, да ни с чем и возвернёмся. Всё едино — что ель, что сосна: дух-то хвойный!
Срубили мы нашу сосенку под самый корешок, приладили на санки и поволокли к дому. День между тем истаивает на глазах, снег розовеет, а мороз «дожимает» уходящий проклятый 41-й. А обида на бабушку потихоньку проходит — всё-таки будет у нас «ёлка» с песнями и блинами!
Поставили мы свою сосенку в ведро с песком. Оттаяла она, и пахнуло на нас хвойным праздничным запахом. Однако во что её наряжать, красавицу? Оказалось, бабушка-заботница прихватила из города кое-какие игрушки. Да только мало их, мало на нашу пушистую «ёлку». Пришлось придумывать на ходу. Нашлись у бабушки довоенные ещё нарядные карамельки — привязали мы к ним белые ниточки и развесили по веткам. Одну я, проказник, тайком освободил от фантика и спрятал под язык. Вкуснятина!
Потом мы нащипали ваты — и получились большие нетающие снежинки.
— А баранки чем не игрушки? — придумала старшая сестра Антонина. Потом Анна цветные карандаши в дело пустила — заместо хлопушек. Стоит наша сосна нарядная, к празднику готовая. Только одна незадача: нету красной звезды на макушке.
Была не была! Я беру красный карандаш и рисую звезду на обеих страничках листа, вырванного из тетради по арифметике. Потом вырезаю эту звезду и прикрепляю её на макушку сосны. Немножко неуклюже, кособоко получилось — но всё-таки получилось!
А на столе, на столе-то — богатство неописуемое! Грибки солёненькие, капуста квашеная с постным маслом, и клюква, и брусника в больших плошках. Бабушка вырубила их по большой глыбе топором из бочки. Потом, когда ягоды оттаивают, ледяная глыба рассыпается кровавыми капельками — тут хватай их и отправляй в рот! Холодит, оскоминкой стягивает нёбо. Прелесть что за ягода! Спасибо дедушке Морозу — это он обеспечил нам такой выдающийся десерт.
Ближе к ночи зажгли коптилку — сплющенную гильзу от крупнокалиберного патрона. Заметались по стенам и потолку тени, а фитиль разгорается, в доме светлеет…
Здравствуй, Новый год! Бабушка неторопливо наливает нам по чашке чая и смотрит на старенькие ходики, которые наконец отстукивают двенадцать раз.
С Новый годом, дорогие!
…Много позже услышал я, полюбил навсегда и выучил великую, бессмертную русскую песню:
Под сосною, под зелёною
Спать положите вы меня…
И дальше:
Сосёнушка зеленая,
Не шуми ты надо мной…
Было это шестьдесят лет тому назад.
«КОЛОТУШКА»Где Лев нашёл эту гранату — не знаю. Впрочем, а чего тут знать-то? Этого гремучего добра кругом — завались: и в лесу, и в парке над Друтью, и даже в развалинах райцентра. Не успевали военные собирать это немецкое «наследство», а мы, мальчишки, пользовались моментом — разводили костры над снарядами или минами; а особенный шик был — стреляющие раскалённые патроны. Сидим, значит, за толстыми пнями на опушке (это немцы отодвигали лес от дорог, а дороги — от партизан) — потрескивает костёр, и вдруг очередь: тра-та-та-та! И пули над нашими дурными головами посвистывают… Вроде как продолжается война, на которую, чёрт возьми, мы не успели по возрасту.
Смерть в те первые послевоенные месяцы и годы постоянно ходила за нами по пятам, как прилипчивая девчонка. Оглянешься — а она тут, язык кажет, дразнится, босоногая. И соблазняет: то гранату прямо в руки сунет, то кучу патронов перед тобой рассыплет, то снаряд толстенный подкатит прямо к пылающему костру. Сколько погодков моих тогда улетело на небо, сколькие лишились глаз, рук, ног — всех не счесть и не упомнить…
Помню, Первого мая уже 47-го года выстроилась наша пионерская дружина на торжественную линейку у братской партизанской могилы в центральном поселковом сквере. Отряды сдают рапорты, всё идёт, как положено, и вдруг — грохот, ветер пронёсся, на мгновение заложило уши.
— Снять шапки! — зачем-то крикнул я (председатель совета дружины). — Вечная слава героям! — Поднял руку в салюте и тут же подумал: зачем дурачусь? Какие герои? И вообще — где и что рвануло?
Чуть позже выяснилось: пятеро хлопцев из первой школы откопали толстенный снаряд, закатили его в костёр и долго ждали, когда рванёт. Очень долго ждали, уж и костёр догорел, серой пылью покрылся. А взрыва всё нет. Судя по всему, решили они поглядеть, в чём дело. Пошли цепочкой друг за дружкой, самый малый — в хвосте. Он один жив и остался, только ножки ему оторвало и унесло взрывной волной в кустарник, что внизу над речкой…
Особенно много — почему, не знаю — было мин, тёмно-красных, с блескучими стабилизаторами и ярко-жёлтыми кнопочками взрывателей. Весной первого послевоенного года распахивали мы с дядей Мишей Мешкарудным, конюхом райкомовским, огород под картошку — чуть ли не в самой серёдке райцентра. Прошли борозду, вторую — и вдруг заскрежетало железо об железо, и стали выворачиваться из-под плуга в отвал маленькие, аккуратненькие смертяшки — немецкие противопехотные мины. Испугаться не успел, только удивился поначалу: почему к ним земля не прилипает? Так весело они сверкали на солнце своими медными рубашками. Холодок смертельного страха побежал по живому телу чуть-чуть позже, когда дядя Миша бросил чепиги плуга и застыл на месте, а мы с Серым (я вёл его в поводу по борозде) ещё проскрежетали, пожалуй, с метр. И тут Серый остановился — наверное, от неожиданной тяжести…