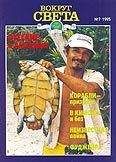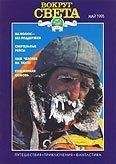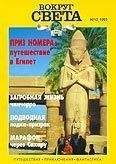Журнал «Вокруг Света» - Вокруг Света 1996 №07
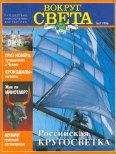
Обзор книги Журнал «Вокруг Света» - Вокруг Света 1996 №07
След Минотавра
В первый раз мне посчастливилось попасть на Крит в канун мая 1995 года. Поездка была сумасшедшей: греки, принимавшие нас — представителей российской прессы, постарались «упаковать» в три дня всю многовековую историю острова. В известной мере им это удалось: я уезжал с разбухшей от впечатлений головой и мучительным ощущением, что не увидел и не понял самого главного. Наверное, поэтому я вернулся сюда осенью. Один.
Странное дело: поначалу мне казалось, будто я попал не в Ираклион (это главный порт на Крите), по которому нас возили весной, а совсем в другой город. Вот что значит спешка, взгляд из окна туристского автобуса! Улицы, дома, ресторанчики выглядели теперь иначе, и все же я испытывал подлинную радость возвращения настолько безошибочно узнаваем был дух Ираклиона, дух Крита — свободный дух греческих островов.
С края крепостной стены, построенной венецианцами почти пятьсот лет назад, открывался вид на море. Это мощное укрепление появилось на месте громадного рва, вырытого сарацинами шестью столетиями раньше. Ров — по-арабски «хандак». Именно так назывался город на рубеже второго тысячелетия. После того как им овладели венецианцы, Хандак стал Кандией — так было более привычно уху латинянина. Знаменитая Кандия! Гордость заморских владений Венецианской республики — разве можно было ее уступить? И в 1453 году, сразу после падения Константинополя, началось возведение грандиозной крепости — строительство, растянувшееся почти на сто лет, но превратившее Кандию в город-форт, один из самых неприступных на Средиземноморье. Мегало Кастро — так назывался форт — на доброе столетие охладил пыл турецкой армии, но когда все же пришел 1645 год и практически весь Крит склонился под властью султана, Мегало Кастро держал осаду еще целых 20 лет!
Ираклион — Хандак — Кандия — Мегало Кастро — Ираклион. Название крохотной деревушки, существовавшей еще до пришествия арабов, вернулось спустя тысячу лет освобожденному городу. С высоты крепостной стены я смотрел на мирное, иссиня-зеленое море, которое и сегодня называют Критским. У причалов порта швартовался громадный паром. На его корме можно было различить название: «Царь Минос». «Царь Минос — это уже не история, это миф, выдумка», — подумал я и тут же почувствовал, что сам себе не верю. То, что всегда было для меня литературным понятием, здесь, на Крите, обретало особый, гиперреальный смысл. Миф существовал: его очертания проступали над венецианскими крепостями, турецкими мечетями и византийскими храмами, как мираж, как зыбкое отражение того, что уже ушло под землю и под воду, растворилось в веках. Минос, Дедал, Минотавр — это была середина Мифа, а начиналось все весной, в сырой и темной пещере...
Колыбель бога
Вы напрасно потратите время, — убеждал меня за завтраком англичанин, сосед по отелю. — Первого мая в Греции ничего не работает. — Но ведь это пещера! — возражал я.
— И пещера будет закрыта. Вот увидите.
Шел последний день нашего краткого весеннего визита на Крит. Паром в Афины отправлялся в пять вечера, и покинуть остров, даже не попытавшись взглянуть на место, где, по преданию, родился главный из олимпийских богов, было бы, конечно, непростительно.
Горный массив Дикти кутался в утренний туман. Ущелье, вдоль которого мчал наш автобус, выглядело диким, пока на его крутых склонах я не заметил оливы. Посаженные там, где, казалось, человеку нечего делать, деревья, вероятно, давно уже пережили своих первых хозяев, и мне хотелось понять, приходит ли кто-нибудь сегодня в этот горный уголок, чтобы собрать подаренный солнцем урожай. Но ни признаков жизни, ни следов запустения я различить не мог. Что-то странное было в тех критских горах. Явно безжизненный склон иногда казался обитаемым, а живая, белокаменная деревушка, промелькнувшая на косогоре, — давно покинутой людьми. Именно тогда впервые возникло во мне это мистическое ощущение полупрозрачности бытия, когда за реальной картиной проглядывают какие-то неясные контуры то ли из другого времени, то ли из другого пространства. Возможно, это и было одно из воплощений Мифа.
На перевальной седловине показались ветряные мельницы. Откуда-то взялись они в этой пустынной местности — возникли неожиданно, подобно стражам неведомой страны. Автобус мчался им наперерез, каменные мельницы приближались, все увеличиваясь и увеличиваясь, и вдруг стало ясно, что они мертвы. Одни — полуразрушенные — уже были частью скалы, другие — с уцелевшими крыльями — словно говорили, что еще могли бы принадлежать людям.
За перевалом начался спуск на плато Лассити. Это обширное, окруженное вершинами пространство, — своеобразный горный оазис, где с незапамятных времен селились те, кто не желал частых встреч с людьми. Но еще раньше на северном склоне Лассити, в сумрачной пещере, родился первый и, наверное, самый знаменитый критянин — мальчик по имени Зевс.
У Зевса, как известно, было трудное детство. Его отец Кронос — сын бога неба Урана и богини Земли Геи — коварно узурпировал небесный трон своего отца и был за это проклят родителями. В соответствии с предсказанием, возмездие Кроносу должно было прийти от его собственного ребенка. Озабоченный Кронос избрал лучший способ обезопасить себя от посягательств потенциально бессмертных наследников: он глотал их по мере рождения и хранил в своем животе. Его жена Рея была безутешна, и когда подошел ей срок рожать последнего сына, она с помощью Геи спряталась на Крите, в Диктейской пещере, где и родила Зевса. А чтобы Кронос ничего не заподозрил, ему подсунули запеленутый булыжник, который он и проглотил.
Автобус промчался по краю окутанной туманом долины, у развилки с указателем «Диктейская пещера — 2 км» вновь полез в гору и остановился. Последние метры подъема мы прошли пешком, пока не уперлись в забор с запертой калиткой. Прав оказался англичанин: пещера была закрыта.
— Первого мая профсоюз запрещает работать, — пояснил сторож. — Вы же из России, вы понимаете...
Немцы, французы, англичане поднимались к пещере и, постояв у калитки, разочарованно шли вниз, однако мы не торопились уходить. Лицо сторожа становилось все более задумчивым — с ним происходило то, к чему я уже привык во время визита в Грецию, но чему не переставал удивляться. Я бы не стал говорить о каком-то особенном отношении греков к России — Греция, вообще, исключительно гостеприимная страна, но взаимное притяжение российской и греческой души — обстоятельство несомненное. Сработало оно и на этот раз.
— Хорошо, — сказал сторож. — Только чтобы никто не видел.
Выбрав момент, когда площадка перед забором опустела, он быстро отпер калитку и пропустил нас к пещере. Вход в нее был мрачен, как, наверное, вход в преисподнюю.
Узкая деревянная лестница вела вниз, в пугающую темноту. Сторож раздобыл две тусклых лампочки наподобие шахтерских, пару коптящих керосинок и предложил спускаться гуськом. Пещера оказалась неглубокой, сырой, темной, а внизу еще и тесной. Мы быстро достигли дна и набились в крохотное, заполненное сталактитами и сталагмитами «родильное отделение», где в кромешной тьме появился на свет верховный олимпийский бог.
— Будьте осторожны, — предупредил сторож. Но я уже успел оступиться и промочить ноги.
Наверху, у входа в пещеру, сторож показал нам дерево, на котором в свое время висела колыбелька Зевса, а вокруг нее танцевали Куреты — ангелы-хранители Крита — танцевали, ударяя мечами о щиты, чтобы заглушить плач новорожденного бога. Как известно, им это удалось. Кронос остался в неведении, а Зевс, подросший и возмужавший, пришел к своему отцу и победил его, исполнив тем самым предсказание. Поверженный Кронос изрыгнул всех проглоченных братьев и сестер Зевса, а также запеленутый булыжник, который Зевс водрузил на вершину горы Парнас в назидание потомкам.
Пока мы лазили в пещеру, мир преобразился. Туман над Лассити рассеялся, открыв дивную картину возделанных полей, цветущих яблонь и ветряных мельниц-водокачек. Те грузные каменные мельницы-исполины, которые встретились нам на перевале, остались в другом времени. Это было уже новое поколение мельниц: металлическое, унифицированное, с белыми трепещущими крылышками. Блистающий, радостный облик Лассити затмил грязноватую пещеру — помню, я даже подумал, что для верховного божества можно было бы подобрать пещеру и посолидней.
Однако осенью в Ираклионе, вспоминая Диктейскую пещеру, я уже не сомневался, что она — ТА САМАЯ, хотя доказательств этого, разумеется, не появилось. Изменилось мое отношение к Мифу: его фантастичность перестала возмущать мой разум, и, подобно местным жителям, я научился думать о Мифе, как о чем-то неотъемлемом для Крита и потому допустимом. Во всяком случае, я избавился от снисходительной иронии, с которой слушал весной незамысловатые комментарии сторожа.