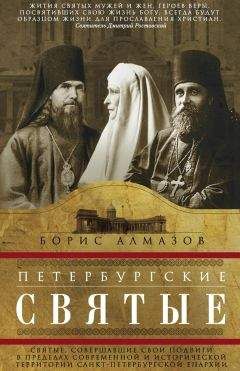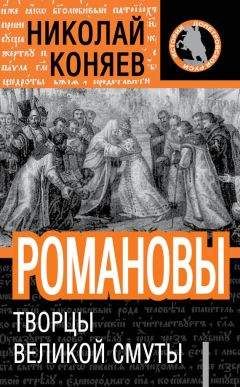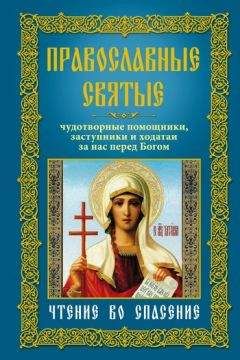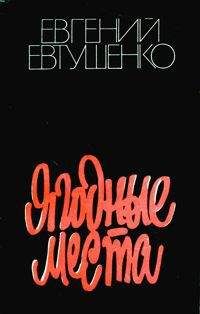Ирина Сироткина - Свободное движение и пластический танец в России
Конечно, никто из «Гептахора» никогда не брал у Дункан уроков. Да и как можно обучить экстазу? Айседора говорила, что научить танцевать никого нельзя, можно только пробудить такое желание[180]. «Гептахор» хотел следовать не букве, а духу ее искусства – говоря их собственными словами, учиться у нее не танцу, а пляске – вдохновленной музыкой и наполненной искренним чувством. (В это же время друг «Гептахора» поэт Михаил Кузмин писал: «Сущность искусства – производить единственное, неповторимое, эмоциональное действие». Кузмин основал группу «эмоционалистов», в которую вошел и сын Ф.Ф. Зелинского Адриан Пиотровский, которого хорошо знали в студии[181].) В уставе «Гептахора», экземпляр которого никогда из студии не выносился, он был назван «студией пляски»[182]. Студийцы отказались от хореографии как предварительной постановки танцев – их «вещи» вырастали из импровизации как их собственной эмоциональной реакции на музыку[183]. «Гептахор» смело взялся за невозможное: создать «метод преподавания и воспитания в учениках пляски» – то есть научить чувству, радости, экстазу. Речь шла о гораздо большем, чем техника движений, – о «творческом жизнеощущении» человека, которое «дает ему внутреннюю силу и свободу, делает его прекрасным». Таким жизнеощущением – способом продлить «редкие минуты озарения» – и была для гептахоровцев пляска. В ней, и только в ней, современный человек может почувствовать себя «творческим и гармоническим», а жизнь становится «единой, говорящей»[184].
При приеме в студию новых учеников главным была не их физическая подготовленность, а «потенциальная способность к пляске, свободному выявлению в движениях своих музыкальных переживаний… эмоциональная отзывчивость на музыку»[185]. На «состязаниях по пляске», которые «Гептахор» устраивал каждый год, побеждал не самый техничный, а тот, кто мог и умел включиться в музыку и отдаться движению целиком и полностью, не придумывая ничего, не заботясь о форме, художественном совершенстве и разнообразии движений, – тот, кто «мог заразить и взволновать своей непосредственной реакцией на музыку»[186]. Эти «состязания» были бы невозможны в обстановке публичного выступления, так как требовали «большой интимности, сосредоточенности и погруженности». Именно «правдивость и искренность выявления в движении своих музыкальных переживаний» студийцы считали «самой глубокой сутью» своей работы – «пляской» в собственном понимании[187].
Наиболее активная концертная деятельность «Гептахора» приходится на начало 1920-х годов. Группа получила официальный статус «частной студии музыкального движения»; ее имя мелькало на афишах, у нее была своя публика, появились рецензии. Иногда бывало несколько выступлений в неделю. Исхудавшие от голода танцоры должны были перед выходом на сцену скрывать бледность лица под макияжем, но впечатления от танца это не портило. «Гептахор» приобрел друзей и покровителей из числа знаменитостей. Одним из них был Дмитрий Шостакович, подаривший студийцам автограф «Песни о встречном», на которую те сделали композицию. Другим стал Сергей Ольденбург, занимавший высокий пост академика-секретаря Академии наук, который выступил в поддержку студии, выразив пожелание, чтобы ей «была дана возможность продолжать и расширять свою работу»[188]. Возможно, это помогло «Гептахору» получить в 1927 году статус государственной студии на хозрасчете. Это несколько облегчило жизнь: уменьшилась плата за помещение, иногда бесплатно давали дрова, раз в год ремонтировали рояль. Но для развертывания настоящей школы средств не хватало. Редкие концерты, которые плохо анонсировались, не приносили дохода. Учеников было немного, к тому же с некоторых – наиболее способных – не брали плату за обучение. Без серьезной материальной поддержки студия не могла существовать и через несколько лет объявила о своем закрытии. Однако работа над системой музыкального движения продолжалась, появлялись и новые воспитанники. Последнее выступление «Гептахора» состоялось в день его двадцатилетия, 27 декабря 1934 года[189]. После убийства Кирова продолжать работу такой студии в Ленинграде было немыслимо; кроме того, между ее участниками накопились разногласия. Переехав в Москву, Руднева и несколько ее коллег стали преподавать музыкальное движение в детских учреждениях; так в их жизни начался новый – нестудийный – этап[190].
Для его участников «Гептахор» был не просто студией танца, а – способом реализовать свои идеалы, общим делом и образом жизни. Высокое понимание пляски и дружбы, подобной дружбе античных героев, передал им Учитель – Зелинский. Вслед за Владимиром Соловьевым студийцы мечтали о «художестве как важном деле» и, подобно «мистическому анархисту» Вячеславу Иванову, не принимали «данный мир – во имя долженствующего быть»[191]. Утопия пляски как совместного жизнетворчества умирала постепенно. В последние годы студия жила на деньги сподвижницы Рудневой Натальи Энман, которая одна только имела стабильную зарплату. Но под влиянием своей подруги-коммунистки Энман ушла из «Гептахора», и студия лишилась финансовой поддержки[192]. Официальный коммунизм победил наконец плясовую коммуну.
«Гептахор» оказался и жертвой, и невольным участником превращения дионисийства в «дрессированный пляс»[193]. Нельзя сказать, что коллективизм был студии чужд. Напротив, студийцы утверждали, что развивают «дело, начатое Дункан, в сторону коллективизма», и настаивали на групповой идентичности. Вместе они писали манифесты, совместно, под действием «единого импульса музыкального восприятия», сочиняли свои «вещи». Занявшись «массовой художественной работой», они и это делали талантливо. Создавать «массовые пляски» Руднева и Бульванкер начали, когда помогали как-то на жатве. «Вечерами, – пишет Руднева, – мы… бродили по степи и однажды размечтались о том, чтобы наше музыкальное движение стало доступно широким молодежным массам». Вскоре за подписью «бригада Гептахора» появился сборник «массовых плясок», ставший одним из многих пособий такого рода[194]. После распада «Гептахора» Бульванкер стал хормейстером любительских хоров – клубным работником самого высокого уровня; Руднева работала методистом отдела народного образования, организовала курсы руководителей, многие преподавали музыкальное движение в школах и домах культуры[195]. Что бы ни делали бывшие студийцы, они старались сохранить отзвук той пляски.
Но вернемся к тому времени, когда студийное движение, питаемое общинным духом, только зарождалось.
Глава 3
Студии пластики
Семена, брошенные Айседорой Дункан в российскую почву, быстро взошли и принесли плоды. По свидетельству современника, уже в 1911 году в Москве можно было найти «представителей всех методов и направлений современного танца»[196]: школу античной пластики графа Бобринского, частную балетную школу Лидии Нелидовой, ритмическую гимнастику по системе Далькроза, студию пластики Эллы Рабенек и еще одну, открытую ее ученицами. «Пластика», «выразительное» или «сценическое движение» преподавались в школах императорских театров и на частных курсах еще до приезда в Россию Дункан, но ее выступления придали им иное направление. В театральной школе А.П. Петровского, например, «всех учениц разули, одели в хитоны. Мазурку и менуэты сменили танцевальные этюды “Радость”, “Печаль”, “Гнев”. Не умолкал рояль…»[197]. В Суворинской школе «пластику», больше напоминавшую балетную пантомиму, преподавал балетмейстер императорского театра И.К. Делазари: ученики перед зеркалом репетировали движения и позы, «выразительно передававшие чувства». В школе графа Алексея Александровича Бобринского по изображениям на греческих вазах воссоздавали пляски и ритуалы Эллады. Преподавали пластику и в Художественном театре, и в студии Мейерхольда. Станиславский сначала хотел, чтобы занятия вела сама Айседора, но потом доверил это дело дунканистке Элле Рабенек – и остался доволен. В студии Мейерхольда на Жуковской «пластическую гимнастику» преподавал танцовщик Мариинского театра Валентин Пресняков. На своих уроках он использовал ритмику Далькроза; из скрещения ее с пластикой родился новый термин – «ритмопластика»[198]. В 1909–1910 годах Рабенек в Москве, Пресняков – в Петербурге открыли собственные классы пластики. Вслед за ними появились и другие частные школы, предназначавшиеся главным образом для подготовки актеров – там кроме пластики преподавались пантомима, мимика и декламация, – но были и такие, в которых занимались только «пластическим танцем» (Danse plastique – это слегка тавтологическое название Айседора Дункан дала своей школе в Бельвю под Парижем)[199].
Посещали эти школы и студии в основном девушки и юноши из хороших семей, получившие гимназическое образование и искавшие независимой и осмысленной жизни. Узнав о гастролях Дункан, молодая девушка Наташа Щеглова ринулась из родного Нижнего Новгорода в Москву: «Я стала упрашивать папу, чтобы он меня отпустил на две недели в Москву. Он взял с меня слово, что я вернусь ровно через две недели. А я слова не сдержала. Увидев Айседору Дункан, я совсем с ума сошла от восторга… Я… совершенно заболела желанием поступить в какую-нибудь танцевальную студию». В то время – речь, по-видимому, идет о 1913 годе – выбор уже был: