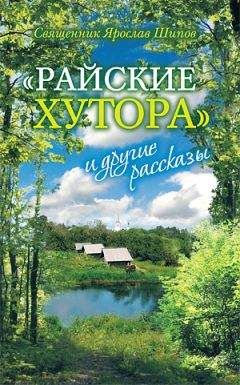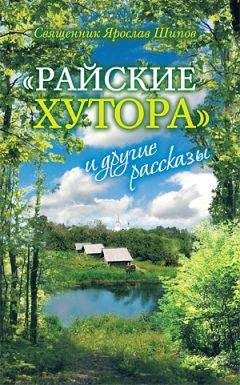Александра Бушен - Молодой Верди. Рождение оперы
— Это ужасно, — сказала Клара. — Горестно и больно, что маэстро Россини перестал писать для театра.
Горестно сознавать, что он оторвался от своей страны, от ее интересов и нужд. Этого я никак не могу понять.
— Маэстро Россини — гениальный композитор и плохой патриот, я уже давно поняла это, — уверенно сказала донна Каролина.
— Не говори так, — воскликнула Клара, — больно слышать это!
И тут заговорил синьор Мартини. Он заговорил негромко и проникновенно, оставаясь неподвижным и устремив глаза куда-то вдаль.
— Маэстро Россини, — сказал он, — появился в период поистине ужасающего для нашего искусства безвременья. Он выступил бесстрашно и самозабвенно, как революционер и новатор. Он восстал против тирании тех, кто не способен творчески мыслить, но сумел навязать свою волю творчески одаренным художникам. Он выступил против устаревших и омертвевших правил, сковывавших вдохновение музыкантов. Он провозгласил свободу и независимость творчества, оплодотворил застывшее и захиревшее музыкальное искусство. Мало того, он согрел и воспламенил это искусство, он насытил его напевностью, он спас его от гибели и возвратил к жизни. Разве можно забывать об этом? И хотя великий маэстро ныне умолк и не внемлет голосу друзей, тщетно взывающих к нему, и можно подумать, что он далек от нас и далек от родины и, может быть, — увы! увы! — так оно и есть, — долг велит нам свято хранить память о том, что маэстро Россини — именно он и никто другой! — спас от гибели музыку нашей родины. За это — слава ему!
— Слава, слава ему! — воскликнул Босси.
Синьор Мартини поднял руку.
— Это не все, не все, что сделал великий маэстро для своей страны и своего народа. В те тяжелые годы, когда родина была так беспредельно принижена, что завоеватели отказывали нашему искусству в праве на самобытность и низвели нашу несчастную страну до положения поставщика вокальных виртуозов для иностранных дворов, маэстро Россини — именно он и никто другой! — силой гениального своего дарования доказал существование оперной музыки, выросшей на нашей родной земле, оперной музыки, вспоенной и вскормленной лучшими творческими силами нашего народа. Вот что еще сделал маэстро Россини для своей страны и своего народа! Разве можно забывать об этом? И если сейчас маэстро не тот, каким мы бы хотели его видеть, то мы всегда должны помнить одно: имя Россини — это слава Италии!
— Верно! — воскликнул Босси и зааплодировал.
И за ним стали аплодировать остальные. Ах, как он говорил, этот синьор Мартини! Невозможно было, слушая его, оставаться равнодушным. Босси и Алипранди встали и аплодировали стоя. Аплодисменты в гостиной, заставленной мебелью, звучали коротко и приглушенно, точно разрывы бумажных хлопушек.
Донна Каролина молитвенно сложила руки. У Клары по лицу текли слезы.
Синьор Мартини умолк, но никто не хотел верить, что он кончил. Смотрели на него с ожиданием. Думали, что он еще будет говорить, и страстно желали этого. Но он молчал и сидел, опустив голову. Котенок тихонько подкрался к нему и терся об его ногу. Синьор Мартини нагнулся и взял его на руки. Все молчали.
И тогда заговорила Клара. Она говорила тихо, почти шепотом, дрожащим голосом, и слезы медленно катились по ее щекам.
— Как я благодарна вам за все, что вы сказали. И с маэстро Россини все обстоит, конечно, так, как вы говорите. И мы, конечно, не имеем права думать о нем хуже, чем думаете вы. Но все-таки, боже мой, почему он не пишет?
— Я много думал над этим, — сказал Алипранди.
Но Босси сразу перебил его:
— Не стоило думать, — сказал он, — Это загадка. Тайна.
— Это проблема, требующая разрешения, — сказал Алипранди. И добавил: — И разрешение ее будет найдено.
— Сомневаюсь, — сказал Босси, — сомневаюсь.
Он хотел во что бы то ни стало помешать дальнейшему развитию разговора. Ему казалось, что синьор Мартини еще не все сказал, ему казалось, что синьору Мартини осталось сказать самое важное и нужное, и он боялся, что посторонний разговор может помешать синьору Мартини сделать это.
Донне Каролине не терпелось принять в разговоре непосредственное участие.
— После чудесных, взволнованных слов синьора Мартини, — сказала она, — я уже но чувствую себя вправе думать, что маэстро Россини — плохой патриот…
Донна Каролина смотрела на синьора Мартини с неожиданной для себя робостью. Она надеялась, что он ей ответит. Но синьор Мартини молчал и рассеянно гладил котенка. Котенок потихоньку пытался мурлыкать.
— Творческая личность великого маэстро, — сказал Алипранди, — представляется мне полной самых резких противоречий.
— Какие противоречия? — спросила Клара. Веки у нее были красные, но она уже не плакала.
— Разные, — сказал Алипранди, — Большие и маленькие, трагические и комические.
— Какие? Какие? — Донна Каролина не могла сдержать нетерпения.
— Первое и основное, — сказал Алипранди, — противоречие между музыкантом и человеком, между характером музыканта и характером человека, противоречие между гениально одаренным, дерзновенно бесстрашным композитором и на редкость трусливым и малодушным человеком.
— Какое отношение это имеет к искусству великого маэстро? — ворчливо буркнул Босси. — Разве гениальная одаренности композитора не является сильнее любой его слабости как человека?
— Не знаю, — сказал Алипранди. — Бывает иногда, что слабость человека сильнее гениальности композитора. И тогда смелые начинания композитора могут быть ослаблены и даже сведены на нет малодушием человека.
— Примеры, примеры! — взмолилась донна Каролина. — Ах, как это любопытно — то, что вы говорите!
Донна Каролина была очень возбуждена и нарочито преувеличивала свое впечатление от слов Алипранди. Она досадовала и сердилась на синьора Мартини. Он не только не ответил ей, он даже не взглянул на нее. Все его внимание было поглощено котенком. Донна Каролина сердилась и досадовала. Она привыкла к поклонению и была избалована вниманием мужчин.
— Примеры? — спросил Алипранди. — Извольте. Ну, хотя бы такой пример. Все знают, что маэстро Россини первый нашел в себе смелость вступить в единоборство с безнаказанным произволом всесильных вокалистов и что это единоборство увенчалось победой. Маэстро Россини запретил певцам какие бы то ни было отклонения от написанного музыкального текста, запретил какие бы то ни было произвольные украшения, трели и каденции. Это — акт большой смелости, а по тому времени — акт дерзости неслыханной. И что же? В то же самое время маэстро Россини вписывает сам в музыкальный текст такое огромное количество украшений, трелей, быстрых гамм и самых замысловатых пассажей, что музыка никнет и хиреет под непосильной тяжестью этих украшений, этих длинных трелей, этих быстрых гамм и замысловатых пассажей. Что это, по-вашему?
— Ну, конечно, это слабость, — сказала донна Каролина. — Это слабость характера и малодушие. Как любопытно! Я никогда не задумывалась над этим.
— Это мелочь, — сказал Босси, — стоит ли об этом говорить!
Босси был очень недоволен. Ему казалось, что разговор этот неуместен, что своими суждениями Алипранди как бы оспаривает то, что сказал синьор Мартини. И он боялся, что эта ненужная и праздная болтовня может отбить у синьора Мартини желание сказать еще что-нибудь, что-нибудь важное и нужное. И он поглядывал на синьора Мартини с тайным желанием разгадать его мысли.
Но синьор Мартини, казалось, не слушал. Он смотрел на котенка. Котенок заснул. Синьор Мартини перестал его гладить. Он бережно держал его на левой руке и придерживал правой. Рука его казалась восковой.
Клара все еще ждала ответа на свой вопрос.
— Но все-таки, что мешает ему писать сейчас? — сказала она. — Сейчас, когда родина так ждет композитора, который заговорил бы в музыке по-новому о новых чувствах?
— Ничто не мешает, — сказал Босси с раздражением.
Делать было нечего. Остановить течение разговора ему не удалось. Он развивался безостановочно, и вот уже он сам, Босси, задет за живое и принимает в этом разговоре непосредственное участие.
— Ничто не мешает, — повторил Босси. И продолжал запальчиво и раздраженно — Мешает то, что он гений! Он достиг вершин, недоступных ни для кого другого. Ему больше нечего достигать. Ему не к чему стремиться. Ему нечего желать. Он с олимпийским спокойствием взирает на мировую суету и почивает на лаврах. Вот что мешает ему писать.
— Вы думаете так? — спросила Клара.
Она не могла согласиться с таким простым и благополучным разрешением вопроса о молчании Россини.
— Ему мешает, — сказал Алипранди, — трагическое противоречие, существующее между его психикой и развитием исторических событий. Ему мешает разлад между содержанием его творчества и тем, что является в данный момент характерным и насущным для искусства нашей страны. Вот что ему мешает!