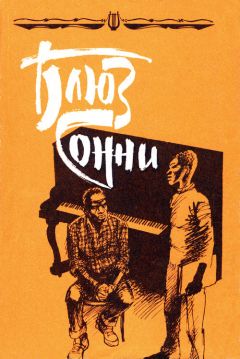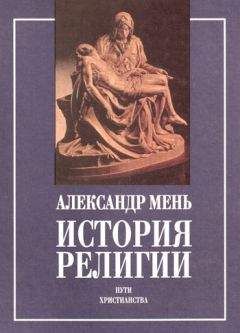Эдуард Мёрике - Блюз Сонни: Повести и рассказы зарубежных писателей о музыке и музыкантах
Все поглядели туда. Там никого не было, но орган не затихал, и звук его был подобен пению ангелов.
— Ну, говорила я вам, донья Балтасара, говорила я вам? Что-то тут нечисто! Как, вы не были на Рождественской мессе? Но уж наверное знаете, что случилось. Вся Севилья только об этом и толкует… Сеньор архиепископ вне себя… Да как же иначе? Он не пошел в церковь святой Агнессы, не видел чуда… и ради чего? Ради того, чтобы слушать кошачий концерт. Люди говорят, иначе не назовешь то, что устроил косой в самом соборе. Значит, в прошлом году играл не этот обманщик, играла душа маэстро Переса.
© Художественная литература, 1985 г., перевод на русский язык. © Н. Л. Трауберг, 1991 г., перевод на русский язык.Камило Хосе Села
(Испания)
ОРКЕСТР — ПЕРВЫЙ СОРТ!
Они выправили бумаги, пошли к нотариусу, все уладили и принялись искать подходящую дыру. Нашли, заплатили, перевезли со склада первую партию товара и открыли лавку. На открытии пили вино, ели пышки, а духовой оркестр играл пасодобль, «Осаду Сарагоссы», «Волонтеров», «Свадьбу Луиса Алонсо», «Поцелуй». И дело пошло!
(«Улица Св. Бальбины, 37, газ в каждой квартире»)Хесус Халансе Терсага играет на корнете. Верекундо Мул Баласоте дует в саксофон. Трофимо Гарвин Пачеко бьет и в барабан, и в литавры.
— Ну, поесть нам не придется, зато музыку послушаем. Ух, и потанцуем! Оркестр у них будет первый сорт. Это уж как пить дать.
Одноглазый Хесус Халансе Терсага — родом из Мадридехос, вот его и прозвали (ах, люди, люди!) «Кривым из Мадридехос». У Верекундо Мула Баласоте специального прозвища нет, его зовут лаконично: «Мул». Трофимо Гарвина Пачеко зовут «Французом», потому что он мычит.
— А «Катьюшу» можно?
— Нет, сеньора, «Катьюшу» мы не умеем, она очень трудная. Кривой из Мадридехос, как явствует из его имени, не только одноглаз, но и родился в Мадридехос, провинция Толедо. Глаз он потерял у Харамы, во время войны.
— А как одним глазом, все видно?
— Обязательно, сеньора. В два раза больше, чем двумя.
Мул хромает. В юности он упал с крыши вагона (держись, поворот!) и ему отрезало ногу, так что теперь нога у него деревянная, из ясеня, как те палки, на которых пастухи от одиночества вырезают затейливый узор.
— Болит?
— Нет, сеньора, разве что весной, соки бродят, почки распуститься хотят. А потом — ничего, весь год не беспокоит.
Француз — немой. Он отдавил язык крышкой чемодана и теперь, в сущности, у него только пол-языка.
— Скажите, можно ребенку ударить в ваши тарелочки?
Мул — он побойчей прочих — не остается в долгу.
— Вот что, сеньора, вы лучше к нему не лезьте. Не видите, что ли, — немой.
Немой француз улыбается и протягивает мальчику литавры. Мать, если она в духе, дает ему реал.
— Пошли, пошли, сыночек, дядя в мешок заберет.
Хесус Халанса Терсага, Верекундо Мул Баласоте и Трофимо Гарвин Пачеко — очень веселый оркестр; они умеют скрывать свое горе. Кривой, Мул и Француз играют на бедных крестинах, на бедных свадьбах, перед домами бедных, которые, заслышав их музыку, широко раскрывают двери, словно им впервые открылась надежда. Кривой, Мул и Француз цены не назначают — едят, что дадут, и в карман кладут, что дадут; а дают им всегда.
— «Катьюшу» умеете?
— Нет, сеньора. Тут ваша знакомая уже спрашивала. «Катьюшу» мы не знаем, она очень трудная. Хотите марш «Петушок»? А хабанеру из «Сахарного тростника»?
Хесус Халанса Терсага, Верекундо Мул Баласоте и Трофимо Гарвин Пачеко всегда рады доставить ближнему радость, которая — то лучше, то хуже — помогает ему тянуть печальную повозку жизни; а повозка эта — пустая, и потому так легка она для веселых и добрых бедных, играющих бедную музыку на бедных праздниках.
© Н. Л. Трауберг, 1991 г., перевод на русский язык.Карло Сгорлон
(Италия)
РЫЖАЯ ЕЖКА
Стоило матери увидеть, что я торопливо надеваю стеганый берет и кожаную куртку, как она настороженно спрашивала:
— Ты куда?
— Гулять. Куда же еще? — отзывался я, сбегая вниз по каменистому склону.
— Небось к Оресте?
— Ну и что же? — бросал я, не оборачиваясь.
— Ничего, ничего… Только не возвращайся слишком поздно!
Голос ее доносился уже издалека. Мне становилось весело, я смеялся. Ветки орешника преграждали мне путь, я обламывал их на ходу. Иногда я оборачивался взглянуть на мать — ее неподвижная фигура все еще маячила в дверях: серое пятно — волосы, черное — платье. Но это случалось редко, обычно всеми своими помыслами я был уже там, у Оресте. Я перепрыгивал ямы, кустарники, хватался за длинные лапы елей, раскачивался и перемахивал на ту сторону оврага.
Завидев издали дом Оресте, я испускал гортанный крик, и через секунду в ответ мне, словно эхо, доносилось:
— А-о-о-о!
У Оресте на крыше был установлен жестяной флюгер — скачущая лошадка. Оресте говорил, что она не слушается ветра, за это мы ее однажды часа три расстреливали из рогатки. Чего мы только не вытворяли у Оресте! Как-то устроили состязание: кто проглотит больше яиц. Другой раз сами делали порох, руки у меня после этого две недели пахли селитрой. Она просыпалась пригоршнями. Оресте заталкивал ее носком ботинка в щели между половицами, и мы смеялись, как шальные. Чаще всего мы пели под аккордеон и гитару. Оресте промышлял контрабандой, я помогал ему. Мелкие торговцы и официанты по ту сторону границы знали нас так же хорошо, как наши односельчане. Оресте делал вид, что покупает дрова и возит их на своем грузовике, а на самом деле в укромных местах и тайниках с двойным дном прятал часы, шоколад, бритвенные лезвия. Ему годился любой товар. У него, да и у меня, паспорт был заляпан печатями и всегда лежал наготове в кармане, словно кошелек. Но по-настоящему страстно мы увлекались пением.
Однажды я застал у Оресте незнакомого парнишку. Звали его Валериано. Очень высокий, по-детски круглолицый, длиннющие ресницы, пухлые щеки. Одна нога слегка искривлена — он на нее прихрамывал. Если присмотреться, казалось, все у него немного перекошено — и шея, и руки в плечах, как будто при рождении его неудачно повернули.
— Валериано будет жить у меня, — сообщил Оресте и бросил мне пачку сигарет. Я не стал выяснять почему. У Оресте не принято было задавать такие вопросы. Он жил один в старом доме, доставшемся ему по наследству от тетки по отцу. Родителей он бросил давно и почти не поддерживал с ними отношений. Мы спустились в погреб, там меня ждала неожиданность: то ли Оресте, то ли Валериано, то ли кто-то еще собрал самый настоящий самогонный аппарат: колбы, перегонные кубы, змеевики, конфорки, а рядом стояли чаны со слегка подгнившими сливами и грушами.
— Что ты собираешься делать, черт возьми?
— Граппу, разве не видишь?
— А умеешь?
Оресте расхохотался.
— Несколько лет назад я гнал ее гектолитрами.
Мы принялись лихорадочно кипятить, выжимать, переливать… Валериано не суетился, будто лучше всех знал свое дело. В основном он молчал, его тенор раздавался редко, но производил странное, завораживающее впечатление, хотелось все бросить и слушать его. От конфорок в погребе стало жарко, как в пекле, пот катил с нас градом.
В ретортах клокотала, шипела и посвистывала жидкость, мне то и дело казалось, что змеевик где-то засорился и вот-вот взорвется. Я искоса посматривал на Оресте и Валериано, не насторожились ли они. Нет, их лица не выражали ни малейших признаков беспокойства. Не по себе было лишь мне одному. Но ведь рядом, в каморке канистры с бензином…
Возгонка проходила быстро. Вскоре Оресте медной поварешкой уже зачерпывал жидкость из ведра. Сначала попробовал сам, потом предложил мне.
— Клевая штука, а? — глаза у него блестели.
— Дух захватывает, — поперхнувшись, ответил я.
— Тем лучше!
Мы проводили по многу часов у перегонного аппарата. Работа так захватила нас, что мы реже стали заниматься контрабандой. В перерывах пели. Однажды Валериано спел «Рыжую Ежку». У нас с Оресте перехватило дыханье, потрясенные мы смотрели друг на друга. Когда Валериано пел, сердце сжималось. Рыжеволосая Ежка, славянка, полюбила альпийского стрелка. История глубоко взволновала, на глазах выступили слезы, нас даже трясло, как в лихорадке. Откуда у Валериано такой голос? Казалось, он — инопланетянин, и его нездешний голос — доказательство существования какой-то неведомой планеты. Мы выучили песню и стали аккомпанировать на аккордеоне и гитаре. Трудно сказать, сколько времени мы так музицировали. У меня было ощущение, что я витаю в облаках — вознесся над окружающим миром. У нас получилось отличное трио. Валериано как будто было безразлично все, чем он занимался, кроме пения. Пение захватывало его целиком, он преображался.