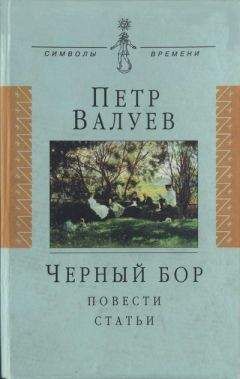Петр Валуев - У покрова в Лёвшине
– Все это я имею в виду и принялся за дело, как следует, – отвечал Чуйкин. – Вчера я тотчас сделал постановление об аресте обвиняемой Прасковьи Михайловой. Сегодня утром она задержана, и я уже допросил ее. Только, признаюсь, она как-то непохожа на преступницу.
– С первого взгляда, пожалуй, и не разберешь, кто преступник, – докторально заметил Крутилов. – Дело разъяснится, когда разъяснятся побочные обстоятельства, о которых я упоминал. Не забудьте, что надобно тщательно расспросить девицу Снегину, которая бежала от своей тетки Сухоруковой и вслед за которой скрылась из дому и Прасковья Михайлова. Что было поводом к этому двойному бегству? Почему Прасковья Михайлова ушла из дому ничего не сказав Сухоруковой? У нее не могло быть семейных поводов к размолвке, как между племянницей и теткой. Кто именно был тогда в доме, потому что самой Сухоруковой, как известно, там не было, и так далее.
– Однако, вы порядком поосведомились, Максим Иванович, – сказал, улыбнувшись, Чуйкин. – Кто успел вам рассказать все это?
– У меня есть свои источники осведомлений, – сказал товарищ прокурора, два раза самодовольно кивнув головой. – Впрочем, на этот раз и нетрудно было осведомиться. Глаголев близко знаком с Сухоруковой, и он мне сообщил разные характерные подробности.
– Глаголев? – вопросительно повторил Чуйкин. – Но хорошо ли вы знаете его роль в деле? У Прасковьи Михайловой проскользнуло несколько слов на его счет, которые меня заставили призадуматься.
– Его-то, во всяком случае, не следует компрометировать, – сказал Крутилов, вставая. – Дело о краже, конечно, должно быть вполне обследовано и разъяснено; но все побочные обстоятельства имеют условное, второстепенное значение, и от вас зависит им это значение придавать или не придавать.
– Знаю, знаю, – отвечал Чуйкин, провожая своего гостя.
В дверях товарищ прокурора остановился.
– Только не освобождайте Прасковьи Михайловой на поруки, – сказал он, – то есть, по крайней мере, не выпускайте слишком легко или слишком скоро.
– Не выпущу без основательной причины, – сказал следователь. – Пока и просьбы о том не было.
Крутилов вышел.
«Дело скверное, – проговорил Чуйкин про себя, возвращаясь к письменному столу, на котором лежало несколько нераспечатанных конвертов. Затягивать его нельзя. – Дня три-четыре, пожалуй, – но не долее».
Он принялся за разбор бумаг, но еще не успел вскрыть последнего конверта, когда вошедший сторож доложил, что аптекарь Крафт желает видеть его высокоблагородие по нужному делу.
– Знаю, – сказал Чуйкин. – Проси.
Карл Иванович Крафт был застенчив и даже неловок со всяким начальством, кроме своего собственного, то есть медицинского. По этой части он был в себе уверен, знал, что его знали и что он сам знал и безупречно исполнял все свои обязанности. При объяснениях с другими властями он чувствовал себя не на своей почве, становился опаслив и нерешителен, постоянно боялся недосказать чего-нибудь или сказать что-нибудь лишнее, и оттого, особенно на первых порах, легко путался и терялся. Обращаясь к судебному следователю с просьбой освободить на поруки арестованную Парашу, он сначала бессвязно приводил в оправдание своего ходатайства то свое личное убеждение в невиновности обвиняемой, то полунамеки на причины разрыва между Варварой Матвеевной и Верой, то выражение своей уверенности в том, что одна преданность Вере побудила Парашу за ней следовать и самовольно отойти от г-жи Сухоруковой, то некоторые частные указания на неудобные стороны характера и поступков Варвары Матвеевны. Судебный следователь несколько раз его перебивал или останавливал, говоря, что дело разъяснится следствием и что он, следователь, не привлекал к допросу его, Крафта, в качестве свидетеля и потому не может основать своих распоряжений на его отрывочных показаниях.
– Одним словом, – сказал наконец Чуйкин, – вы не столько просите освобождения Прасковьи Михайловой на поруки, сколько обвиняете г-жу Сухорукову в преднамеренной клевете.
– Нет, – отвечал Карл Иванович. – Я не говорю о преднамеренной клевете, а только предполагаю ошибку, торопливо и неосновательно изъявленное подозрение, притом подозрение, которое заявлено, быть может, не сообразив его важности и последствий, в минуту раздражения и гнева, вызванных внезапным уходом Веры Алексеевны Снегиной, а за ней и самой Прасковьи Михайловой.
– Однако подозрение заявлено не тотчас, в первую минуту гнева, о котором вы говорите, а день или два спустя и при обстоятельствах, которые на первый взгляд его оправдывают. Г-жа Сухорукова утверждает, что у нее похищена тысяча рублей в одной пачке из десяти сторублевых билетов, которую она временно положила в запертый ключом ящик ее письменного стола; что Прасковье Михайловой было известно, что г-жа Сухорукова иногда оставляла деньги в этом ящике; что ящик оказался запертым, но деньги из него исчезли, следовательно, были взяты при употреблении на то подобранного ключа; что деньги были еще налицо утром того дня, когда девица Снегина и Прасковья Михайлова выехали из дому; что на первых порах г-жа Сухорукова о них не вспомнила потому именно, что была поражена внезапным переездом ее племянницы к вам, но что на другой день их не оказалось; и что, наконец, в то время, когда уезжала девица Снегина, Прасковье Михайловой не следовало быть дома, потому что г-жа Сухорукова ее послала к кому-то на Покровку, а между тем она оказалась дома и вовсе не была на Покровке. Все это такие обстоятельства, которые, конечно, не говорят в пользу Прасковьи Михайловой.
– Случайное стечение этих обстоятельств все-таки не может сделать из доброй и честной девушки вора, – отвечал Крафт, который по мере продолжения разговора становился менее застенчив и при живом участии к бедной Параше решительнее входил в роль ее защитника. – Будьте уверены, господин следователь, что все разъяснится и правда возьмет верх. Но теперь я прошу только о том, чтобы вы не держали невинную девушку в какой-нибудь тюрьме с настоящими мошенниками и ворами. Освободите ее на поруки. Она не уйдет от собственного оправдания и, следовательно, от вас. Мы вам какое угодно поручительство представим.
– Вам легко говорить об отдаче на поруки, г-н Крафт, – возразил Чуйкин. – Вы не ответственны. Между тем дело важное, а я человек ответственный и подначальный. Внимание прокуратуры обращено на начатое мною следствие. Я сделал распоряжение о задержании обвиняемой ввиду статей 419 и 420 закона; я уведомил о том прокурорский надзор на основании статьи 283. В случае отдачи на поруки я должен буду, по силе статьи 284, объяснить причины освобождения из-под стражи. Таких причин я пока не вижу. Я даже еще не успел вызвать некоторых свидетелей, которых должен буду допросить по этому делу, например девицу Снегину.
– Как? Снегину? – спросил ошеломленный Карл Иванович. – Зачем вам вызывать Веру Алексеевну Снегину к допросу?
– Если хотите – не к допросу, – она не обвиняется, – а к даче показания. Ее нельзя не вызвать, и нельзя от нее показания не отобрать.
– Неужели ее и в суд будут вызывать?
– Если дело дойдет до суда – конечно.
– Помилуйте, г-н следователь, – сказал взволнованным голосом Крафт, – вызывать и публично допрашивать молодую добропорядочную девушку по делу о воровстве и о воровстве будто бы совершенном сопровождавшей ее горничной, и печатать о том в газетах – это ужасно!
– Оно неприятно, без сомнения, – сказал Чуйкин, – но неизбежно. Притом показание Снегиной будет в пользу обвиняемой. Вы сами не пожелали бы лишить ее выгод такого показания.
Крафт замолчал. Он думал о том, как сказать Вере и Клотильде Петровне о предстоявшем свидетельском допросе.
– Сожалею, – сказал Чуйкин, вставая и тем давая понять Крафту, что объяснение с ним покончено, – сожалею, что пока не могу исполнить вашего желания. Увидим, что окажется возможным позже, смотря по ходу следствия.
– Сила Кузьмич Гренадеров, – доложил вновь вошедший сторож.
– Проси, – торопливо сказал Чуйкин. – Прощайте, г-н Крафт.
– Не позволите ли мне дождаться Силы Кузьмича? – спросил Карл Иванович. – Он к вам пожаловал по тому же делу и с такою же просьбой, как я.
– По тому же делу, – повторил нерешительно Чуйкин. – Тогда не угодно ли вам остаться?
Сила Кузьмич Гренадеров занимал видное положение в московском торговом мире. Он был всем более или менее известен своим богатством, щедрою благотворительностью и гостеприимством в подгородном сельце Торцеве, где он обыкновенно проводил весенние и летние месяца года. Наружность Силы Кузьмича не соответствовала имени, которое он носил. Небольшой ростом, тщедушного телосложения, всегда опираясь на узловатую трость, когда-то им привезенную с Урала, он ни на кого не мог производить впечатления физической силы. Но другие силы, нравственного свойства, в нем были видны с первого взгляда. Густые, над глазами нависшие брови, курчавая черная борода и быстрота телодвижений обнаруживали решительный характер и настойчивую волю, а в голубовато-серых глазах, спокойно светившихся под навесом бровей, высказывались мягкость и доброта сердца, которым поступки Силы Кузьмича никогда не изменяли.