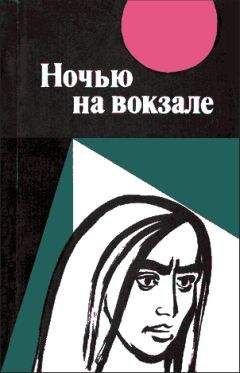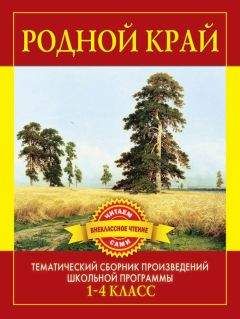Иероним Ясинский - Грёза
– А, вижу, вижу! – кричит он радостно. – Действительно, греческое!
– А видите, вон ещё за ним, – продолжает Раечка, – вон, как паутинка голубенькая этакая чёрточка, мачта… Видите?
Павел Иваныч опять напрягает глаза, прикладывает к ним руку, делает шаг вперёд, шаг назад и опять ровно ничего не видит. Но на этот раз у него не хватает храбрости соврать, и он откровенно объявляет, что не различает никакой голубенькой чёрточки.
Раечка с тоской смотрит туда, в туманную даль, и говорит:
– Хотелось бы мне быть вот теперь на том корабле… на самом дальнем… Ах, Павел Иваныч!
– Зачем? – спрашивает он.
– Не смейтесь… Объяснить не могу… Но только хотелось бы… Но, конечно, что за желание! У меня часто бывают такие желания! Сама не знаю… Вырваться хочется отсюда?
– Откуда?
– Молчите, Павел Иваныч! У меня скучная жизнь!
Он с тревогой берёт её за руку, и они продолжают идти по берегу, а море раскидывается перед ними необъятное, таинственное, синее, сверкающее под золотыми лучами, бросаемыми солнцем из-за лиловых туч.
– Пошлая, скучная жизнь! – повторяет Раечка.
Павел Иваныч не соглашается. Напротив, жизнь ему кажется весьма поэтической. Правда, чтобы быть вполне поэтической, ей недостаёт чего-то. Но это «что-то» во власти Раечки…
А вот они в степи.
Везде, Раечка, зеленеет трава. Смотри, как степь отливает бархатом, потом желтеет, и по ней разливается горяче-янтарным блеском закатывающееся солнце. В туманных, светящихся багровым огнём далях исчезают как золотые точки волы и чумаки бесконечного обоза, который тянется точно гигантская змея. Чем ближе, тем яснее и больше звенья этой живой, туго изгибающейся цепи, и, наконец, можно различать людей, освещённых заревом заката – в широких, пропитанных дёгтем штанах и чёботах, в смушковых шапках, – и мерно раскачивающиеся головы круторогих животных. А небо, синее-синее, уже вспыхнуло местами и тешит глаз мягкостью и гармониею розовых и пурпуровых полутонов, прозрачный воздух благоухает…
Глаза Павла Иваныча напрасно искали сочувствия во взоре Раечки.
– Да, хорошо… Но только знаете, Павел Иваныч, человек всё-таки лучше природы!
– Что ж, – спрашивал Павел Иваныч. – Неужели это исключает возможность любоваться природой?..
– Не то, что исключает, – отвечала Раечка, глядя на Павла Иваныча задумчиво, – но дело в том… Природа сделала человека злым… Он убивает, ближнего давит – всё ведь благодаря природе… А сам-то он, нет-нет, да и захочет быть хорошим… Вот и вам хочется быть хорошим, и мне хочется быть хорошей… Станем восхищаться природою, забудем, пожалуй, наш добрый порыв… Я, Павел Иваныч, всегда себя на этом ловлю.
– Ну, уж вы очень строги! – замечал Павел Иваныч со смехом.
– Может быть, на этот раз… Но вообще – это справедливо… Это надо обобщить… Я это обдумала и это моё убеждение.
Павел Иваныч начинал говорить, что чувство красоты – прогрессивное чувство, что где нет этого чувства, там нет цивилизации, нет идеала, нет высокого. Раечка молчала. А он приходил к заключению, что он развитее её, что ему доступны восторги, каких она не понимает.
* * *С некоторых пор Раечка скучала. Она говорила, что её томит праздность. Она металась и рвалась вперёд, вдаль, а скучная будничность удерживала её в своих ленивых, цепких объятиях. Газеты раздражали её, каждый день принося известия о мире, непохожем на тот, в котором она жила, полном тревоги, деятельности, борьбы, и мало даже имеющем, по внешности, общего с тем спокойным миром неопределённых порываний и грёз, который она сама создала себе…
…Был осенний вечер. На балкончик, погружённый в сумрак ночи, падали из окон полосы света, а сквозь виноградную листву виднелось чёрное небо, где дрожали звёзды. Клумбы ещё были полны цветов, и аромат пропитывал собою влажный воздух. Лето кончалось, можно было ожидать северо-восточных ветров и вообще непогоды, когда побуревшие листья спадут с деревьев и закружатся в аллеях с меланхолическим шорохом.
Раечка и Павел Иваныч сидели рядом на узенькой скамейке и тихо беседовали.
В тоне Раечки на этот раз больше, чем когда-нибудь, звучала суровая нота.
– Вы – мужчина, к счастью, и вам легче устроиться, – говорила Раечка. – Долго вы будете киснуть в нашем городе да ухаживать за барышнями? Говорите же! Я знаю, что вы ничего не делаете и даже ничего не читаете. Не к лицу вам это. А? Как же так, здоровый, сильный, молодой – и сидит сложа руки? А там силы нужны, там изнемогают, может быть, тщетно ожидая поддержки… Нет, Павел Иваныч, прошу вас, ответьте мне прямо!
Сердце его сжалось. Он глянул во мрак сада, как будто в бездну, которую показывали ему в перспективе, и ему жаль стало тихого и мирного уголка, где он привык жить в мечтах – с любимой девушкой, окружённый цветами и согретый теплом женской ласки.
– Чего вы требуете от меня? – сказал он.
– Будьте последовательны, – отвечала она.
– Вы знаете, я хочу быть литератором… – прошептал Павел Иваныч.
– Будьте последовательны, – повторила Раечка.
– Мне кажется, – начал он после молчания, с дрожью в голосе, – что вы немного презираете меня. Но, право, я не заслуживаю этого. Я чувствую себя достаточно бодрым, чтобы… Я всё сделаю, что будет надо! Раиса! Послушайте! Это вы мешаете…
– Я?
– Вы, Раиса! Вы… Я вас люблю, и все помыслы мои – тут, на вас… Оттого и сижу сложа руки и жду…
В окно виднелась внутренность комнаты. Лампа ярко освещала лица стариков, стоявших у преддиванного стола, покрытого красной салфеткой. Старик смотрел на жену с выражением удивления и почти гордости, а старуха радостно качала головой, держа в руке массивное золотое кольцо с крупным брильянтом. Тут же на столе лежали ещё золотые и серебряные вещицы и маленькие весы.
– Вот, что я вам скажу, – начала Раечка, пожав руку Павла Ивановича, – папаша и мамаша тоже очень любят меня. Но я не могу жить в этом воздухе. Мне жаль их, но я их должна бросить. Мне эти заклады спать не дают… Это кольцо жидовка сегодня принесла и плакала, расставаясь с ним… Меня давно тянет отсюда… Я ненавижу всё это… Ах, Павел Иваныч, уезжайте вы поскорее! И как только устроитесь там – в Одессе, или Киеве, или Петербурге – напишите, я приеду к вам…
Голова Павла Иваныча шла кругом; ночь, казалось, дышала ему в лицо, навевая истому. Никуда ему не хочется ехать, никуда! Он всю вечность просидел бы вот так с этой милой девушкой.
Он хотел что-то сказать очень чувствительное и красноречивое; но ничего не сказал, а только вздохнул и крепко, с вспыхнувшим лицом, поцеловал у Раечки руку…
Бывала ли когда-нибудь более блаженная минута в его жизни? Нет, она не повторилась, и никогда больше не загорались для него на небе яркие звёзды, что любовно дрожали в ту ночь…
* * *Через несколько дней он уехал. Раечка махнула ему платком из окна и крикнула:
– До скорого свидания!
А у него больно сжалось сердце, и всю дорогу мерещилось ему её лицо, освещённое кроткими глазами. Он говорил себе:
«Нет, я не в состоянии… Не могу… Нет, я не погублю её»…
Спустя месяц, он написал ей отрезвляющее письмо, в котором просил её руки.
Ответа не последовало.
Это его обидело. Он написал другое письмо, третье. Наконец, получил две строчки с просьбой не приставать, так как между ними нет ничего общего. Губы его похолодели, сердце чуть не разорвалось от гнева, от чувства оскорблённой любви.
– Ничего общего? – переспросил он вслух и скомкал письмо. – А!!!
Он как шальной выбежал на улицу. На другой день он приехал на квартиру пьяный, измятый. Он развратничал и думал, что мстит Раечке.
А время шло.
Теперь Павлу Иванычу тридцать шесть лет. Одиннадцать лет уж он в Петербурге. Он остепенился и женат на особе, которая старше его лет на десять, но у которой свой домик. Она влюблена в него и считает его знаменитым писателем: Павел Иваныч осуществил мечту своей юности и, действительно, сделался литератором. Сотрудничает он в одной газете, не то либеральной, не то подлой, и по-видимому доволен собою и своею обстановкой. Он потолстел, обзавёлся плешью, судит обо всём авторитетно и имеет притязание обращаться к обществу с поучениями с высоты своей фельетонной трибунки. И весело шутит.
Но по временам что-то начинает грызть его и терзать. Он обманул тогда Раечку, струсил, и ему стыдно делается при воспоминании об этом. Что с нею? Где она?
В эти минуты раскаяния, внезапно овладевающего им, былое выныряет перед ним в ослепительном зареве недостижимого идеала, оно кажется ему потерянным раем, и душа его тоскует, а приличная мещанская проза его настоящего давит его страшным гнётом, мучит, преследует, душит как кошмар, он проклинает её, эту вечную каторгу, на которую сам обрёк себя, позорно убежав с другого пути, узкого, но озарённого радугой великой любви и, может быть, великого, страдания.
Минуты эти стали повторяться чаще с тех нор, как в одной пустынной улице Петербурга, в довольно поздний час, он встретился с женщиной, фигура которой напомнила ему Раечку. Женщина была одета в чёрное. Сердце его сильно забилось, и он бросился за нею. Она подозрительно оглянулась и ускорила шаг. Она, Раечка! Павел Иваныч прибавил шагу. Но она юркнула в ворота проходного дома и исчезла.