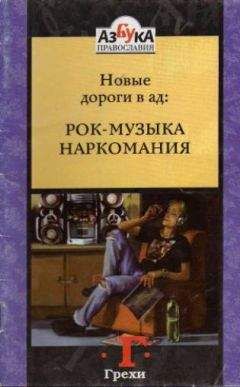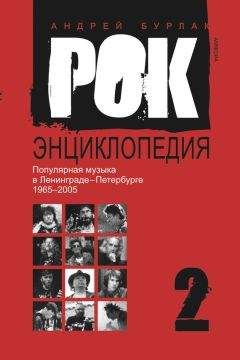Лев Рошаль - Дзига Вертов
Это был один из участков ликбеза на одном из передовых участков кинофронта.
«Человек с киноаппаратом» Вертов не раз называл фильмом, производящим фильмы.
Многие из него многое вдохновенно черпали, даже те, кто его отрицал.
Один из режиссеров-документалистов в начале тридцатых годов прямо заявил: Вертова надо решительно критиковать, беря у него все, что можно.
Вертова это не смущало, он для того и работал, считая даже, что берут гораздо меньше, чем следует. Сомневался лишь в том, нужно ли столь уж решительно критиковать его? Но одновременно с полной объективностью понимал: такое с изобретателями случается.
В силу своей необычности новое изобретение должно пройти «обкатку» жестокой критикой. Но постепенно разрастается понимание, оно доходит иногда даже до восхищения, в том числе и недавних критиков, они спешат воскликнуть: «И я! И я!» А от восхищения до похищения, шутил Вертов, один шаг.
Но и тут не обижался, снова считал: для того и живет, чтобы накопленное не сваливать в пропахшие нафталином сундуки, а делиться всем, что есть. Если что и было обидным, так только то, что некоторые из недавно восхищавшихся с течением времени вместо «И я!» все чаще начинают повторять: «Я! Я! Я!», забывая, кому обязаны своими успехами.
И все-таки «Человек с киноаппаратом» никогда не был лишь экранным учебником, сборником упражнений, каталогом кинотрюков.
Вертова такая цель увлечь просто не могла.
Фильм рассказывал не о кинематографе — о времени.
Многие критики после выхода фильма, не находя в нем привычных атрибутов изображения социальной нови (к которым их приучил сам Вертов прежними картинами) в виде заводов и шахт, огнедышащих домен и дымящих фабричных труб, работающих станков и плотин электростанций, не обнаружив лозунгов и агитационных призывов (или хотя бы все разъясняющих надписей), отказали картине в социальном звучании.
Буквально вчера (в связи с «Одиннадцатым») они сетовали: очень много станков и машин, а уже сегодня затосковали: где станки и машины?
Станки и машины были и в этой картине, но занимали в ней действительно не много места.
Зато с экрана не исчезали люди. Вертов сделал необычайно важный шаг навстречу человеческому материалу, отвечая на критику предыдущей ленты, как всегда, не словом, а делом.
Но дело заключалось не в количественных показателях.
Человек, его поведение лишились на экране чисто символических значений.
Люди просто жили: пробуждались от сна, умывались, спешили на службу, на фабрики, втискивались в трамваи, густой толпой вываливались из утреннего поезда на вокзальную платформу, трудились, прерывались на обед, отдыхали в парках и загорали на пляжах, кружились на каруселях и мчались по велотреку, судачили в парикмахерских, доводили до блеска сияние своих штиблет у веселого уличного сапожника под вывеской «Чистильщик-специалист с Парижа», глазели на китайского фокусника (до чего же Вертов был верен себе!) и на оркестр ложечников, торопились на свидание, женщина рожала в роддоме (до чего же был верен!), по улицам неторопливо двигалась похоронная процессия, в загсе оформлялись браки и разводы (люди смущались, отворачивались от камеры, но смутиться по-настоящему не успевали — все происходило быстро и просто), выдавались свидетельства о рождении и смерти, в клубе играли в шахматы и слушали радио (сквозь черный блин репродуктора сначала возникали растянутые мехи гармони, а потом — ухо человека, «радио-ухо»), высоко в небе пролетали аэропланы. К полудню город, истекая зноем, плавился не только от жары, но и неугомонного темпа жизни, он достигал высшей точки, бешеной круговерти, даже Театральная площадь вместе с Большим театром, не выдержав, разламывалась на части…
— Винегрет! — угрюмо говорили насупленные критики.
Участник проведенного 31 марта 1929 года в московском кинотеатре «Уран» диспута по фильму рабочий Янин спросил под «аплодисменты» (свидетельствует стенограмма) присутствующих:
— А не винегрет ли вообще все наши города?..
Накапливая материал не по линии больших событий, подчас уже в самих себе несущих элементы социальных обобщений, а по линии маленьких случаев, бытовых деталей, Вертов, казалось, изначально противополагал эту ленту предшествующим.
На самом деле она прямо и непосредственно продолжала их.
Была не чем иным, как еще одним пробегом Кино-Глаза в направлении советской действительности.
Кино-Глаз лишь снова поменял маршрут. Но не поменял цель.
На этот раз пробег был — в будни. Не в великие, как в «Одиннадцатом», а в самые простые, житейски повседневные.
Но Вертов, в отличие от многих критиков, считавших себя вправе экзаменовать его по политграмоте, понимал: в житейски простых буднях не может не быть отсвета великих.
Он это экспериментально проверил и доказал.
Картина была закончена поздней осенью двадцать восьмого, на экраны вышла весной двадцать девятого — в год, который назовется годом великого перелома.
Коренные перемены происходили во всех сферах жизни — в экономике, производстве, в деревне (начиналась коллективизация) и в городе.
Грохот развернувшегося наступления не мог не откликнуться в буднях, в повседневном быте.
Но если наступление олицетворяли гигантские строительные площадки, рекордные выработки, трещавшие на всех ветрах кумачовые транспаранты, призывные кличи, начинавшиеся словом «даешь» (Даешь Магнитку!.. Даешь встречный план!.. Даешь перелет!.. Даешь подписку на заем!.. Даешь новые ясли!..), то перестройка будней, обыденного сознания шла часто скрытыми каналами.
Обнажить каналы только перечислением громких фактов, лозунгами и дидактикой вряд ли удалось бы, требовались более тонкие инструменты — надо было заглянуть в глаза, проникнуть в души.
Грохот великого наступления здесь откликался лишь одним — новым мироощущением.
Не гулким эхом сражения, а — тишиной.
Но тишиной не мертвой, а живой — надо было суметь в нее вслушаться.
Вертов отказался от надписей, зримо звучащего слова и даже от зрительной имитации реальных шумов не только ради стопроцентного киноязыка (это была важная и все же побочная задача), но потому, что понимал или, скорее, художнически предугадывал: раскрыть новое мироощущение может не поэзия слов и музыка реальных звуков, а поэзия и музыка чувств. Слова, звуки уже смолкли, когда остались порожденные ими стойкие ощущения.
Никакого хаоса, никакого «винегрета» в картине нет, это выдумка критиков, не понявших фильма.
Великое множество разнообразных и характерных деталей быта в картине монолитно спаяны именно этим — единством нового мироощущения, вошедшего в души людей.
И если часть критики на хаосе все же настаивала, то не оттого ли, что коренной перелом, происходивший в социальном мировосприятии, она сама пока больше воспринимала через слова, лозунги и призывы, а Вертов к новому восприятию мира давно прикипел душой? Ведь уже давно свои журнальные выпуски и фильмы он строил на том же принципе — разрозненные факты пронизывал единой логикой нового мироощущения.
В этой ленте Вертов очень многое повторял, только теперь на более высокой ступени мастерства, на более глубоком знании азбуки и грамматики киноязыка, с блеском и виртуозностью подлинного артистизма.
Единую логику нового мироощущения в наиболее полной мере выражало главное действующее лицо фильма, тоже хорошо знакомое по другим вертовским картинам, — человек с киноаппаратом.
Многие издания, посвященные Вертову, иллюстрируются теми кадриками из «Человека с киноаппаратом», где оператор снимает или отправляется на съемку.
Но картина называлась «Человек с киноаппаратом» не оттого, что Кауфман сам появлялся в нескольких местах на экране. Фильм не сводился к рассказу об операторе и особенностях его работы, как это чаще всего считается.
Дневниковые записи Вертова двадцать седьмого года заполнены всевозможными вариантами будущего построения картины (дополнительное опровержение разговоров о бесплановости работы).
Сами по себе наброски очень живы и интересны, иногда даже с детективно-приключенческим уклоном.
Но картина на них мало похожа (дополнительное подтверждение отдаленности предварительных построений на бумаге от окончательных — после исследования конкретно снятого материала). Во всех умозрительных вариантах героем картины был почти все время присутствующий на экране оператор (или его камера; уставший оператор засыпал на пляже и видел во сне, как камера отправлялась сама гулять по жизни).
В самом фильме героем стал не оператор, а человек с киноаппаратом — при всей внешней близости понятий они в данном случае оказывались отнюдь не адекватными.
Человек с киноаппаратом — не тот, что иногда мелькал с камерой в руках в кадре.