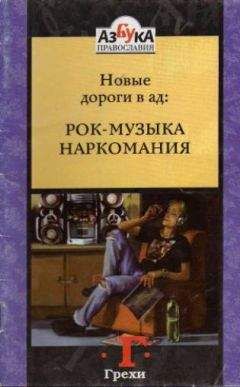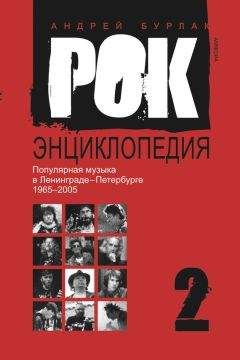Лев Рошаль - Дзига Вертов
Выпуск сопровождался накаленными страстями, они поделили зрителей на горячих сторонников и не менее горячих противников фильма без шансов хотя бы на какое-то единодушие.
Но смолкли споры, последующие фильмы Вертова вытесняли из памяти ленту, она вспоминалась лишь как нечаянная вертовская «описка» (тем более что не походила ни на что) и в конце концов вроде бы забылась навсегда.
И вдруг в конце сороковых годов картину вспомнили снова, но только для того, чтобы обрушиться на нее, в этот раз довольно единодушно и как будто с целью напомнить, что бывает за нечаянно.
А дальше — опять тишина, иногда лишь робкие всполохи давних впечатлений, словно мгновенно сникающие огоньки в пепле угасающего костра — в пепле забвения.
Но шли годы, время способствовало объективному осознанию роли фильма в развитии искусства.
Резкие перепады в судьбе фильма вызывались периодически возникавшими сомнениями, граничащими с уверенностью и опасениями, переходящими в убеждение: картина уклоняется в эстетство, служит удовлетворению формальных авторских потребностей, сводится к «каталогу кинематографических трюков».
Убеждение не раз оспаривалось, но и не раз брало верх.
Повод давала лента: ее замысел, само название предполагали демонстрацию всех возможностей человека, вооруженного киноаппаратом.
Вместе с камерой Кауфман взбирался на самые высокие городские точки и ложился на железнодорожные рельсы. Ставил треногу с аппаратом посредине оживленных улиц и площадей. Врезался в водоворот уличных толп. Неспешно двигался на автомобиле за пролеткой, отвозящей пассажиров с вокзала, и мчался на дрожащей от нетерпения пожарной машине, снимая рядом мчащуюся другую пожарную машину. Крутил ручку аппарата то в прямом, то в обратном направлении. Крутил то нормально, то очень медленно, то предельно быстро. На экране сверхкрупные планы сменялись сверхобщими. Одно и то же изображение расслаивалось внутри кадра на множество. Монументальное здание Большого театра, трепетно вздрогнув (будто вздохнув), нехотя, но бесповоротно разламывалось пополам. Бурно нарастало движение, летели трамваи, авто, пролетки, людские толпы, вращались колеса поезда, детали заводских станков, стирались частности, но в кажущемся всеобщем хаосе резче обозначались путеводные нити. И тут же все обрывалось, на ходу застывали, как в детской игре «замри», трамваи и авто, пролетки с седоками и станки в цехе, машины и люди — много людей крупными планами на стоп-кадрах, — начинали проясняться частности, выясняться подробности. А в следующее мгновение весь этот материал умирал, ложась на полочки монтажного стола мертвыми целлулоидными кольцами с этикетками-надгробиями: «Машины», «Завод», «Движение города», монтажница подбирала куски, просматривала на просвет, подклеивала одно к другому, прокручивая пленку на бобине. И от этого вращения снова все оживало, будто кто-то шепнул «отомри». Трамваи, заводские машины, пролетки, авто, люди мгновенно срывались с места, город продолжал свой будничный поход…
В наброске к автобиографии Вертов писал, что, стремясь делать фильмы социалистическими по содержанию, он учится их делать кинематографическими по форме, по киноязыку.
Но языка документального кино не существовало.
Вертов создавал его (естественно, не он один, но он — в самой большой мере) ступенька за ступенькой, начиная с азбуки.
«Человек с киноаппаратом» был букварем, первой книгой для чтения, или точнее — первым фильмом для зрения, — от «а» до «я».
Но интенсивные лингвистические поиски не исчерпывались лишь азбучными задачами.
Вертов параллельно вел опыты по созданию грамматики документального киноязыка. Своеобразие поисков заключалось в том, что параллельно.
Собственно алфавит Вертова не интересовал.
Его не интересовала пластическая выразительность кадра, замкнутая в себе.
Его волновали сцепления и смены значений.
То, что до конца не удалось в картине «Кино-Глаз» из-за отсутствия технических возможностей, Вертов попытался осуществить теперь — дать фильм, построенный на «стопроцентном киноязыке». Кадры должны были не только что-то зрителю показывать, но и что-то говорить.
В «Человеке с киноаппаратом» азбука шла рука об руку с грамматикой, подчинялась ее законам сцепления, ее синтаксису, всем запятым и точкам, восклицательным и вопросительным знакам, тире и многоточиям. Обычно раздельные ступени овладения языком, начальная школа и средняя, проходились одновременно, на территории одного и того же фильма, это не облегчало восприятие картины, но, как известно, облегченных путей Вертов не искал.
Фильм был не только первой книжкой для чтения, но и хрестоматией для уже овладевших им и желающих прикоснуться к не простым кинематографическим формулам более высокого ранга.
Не сложение кадров. И даже не умножение их, а высшая математика. «Высшая математика фактов» — так говорил сам Вертов.
Лента рассказывала о жизни огромного современного города (традиционный вертовский материал) от раннего летнего утра до раскаленного зноем полудня.
Когда в начале фильма вместе с просыпающимся городом пробуждалась от сна женщина, омывала лицо, протирая и распахивая огромные, на весь экран глаза, когда поднимала веки, опушенные длинными ресницами, то встык с этим поднимались жалюзи магазинных витрин.
Она, мигая, снова распахивала глаза — и поднимались шторы в окнах жилых домов.
Пробуждаясь, город открывал свои глаза — глаза магазинов, глаза домов.
Глаза женщины мигали снова — распахивалось окно в ее комнате, а за ним клонился напоенный свежестью летнего утра куст сирени…
Знание азбуки и грамматики позволяло овладевать следующей ступенью использования языка — ступенью зрительных ассоциаций, метафорического строя.
Лингвистика становилась служительницей поэзии, а поэзия опиралась на лингвистические познания.
Азбука шла рука об руку с грамматикой, а азбука и грамматика шли рука об руку с живой действительностью. Богатство языка помогало полнее выразить богатство жизни, ее фактов и человеческих чувств.
Непрекращающиеся языковедческие поиски были поисками средств, целью, как обычно, оставалась правда.
Но даже если бы «Человек с киноаппаратом» был лишь блистательной, поистине виртуозной демонстрацией возможностей и достижений кино, то стоил ли бы он упреков?..
Эйзенштейн усмехался: называть человека, исследующего художественную форму, формалистом — все равно что врача, исследующего сифилис, называть сифилитиком.
В исследованиях (теоретических и на практике) кинематографической формы Вертов достигал таких глубин, что вряд ли есть надобность терять столь щедрое наследие.
Это наши достижения, открытия нашего кино.
В одной из статей, предшествующих выпуску «Человека к киноаппаратом», писалось: полет летчика Чухновского и тормоз Матросова сами по себе не имеют социального значения, но то, что этот полет осуществлен советским летчиком и что этот тормоз создан в Советской стране — есть явления именно такого значения; это же касается, говорилось далее в статье, фильма Вертова, обогащающего язык киноискусства.
«Поэтому попытку построить фильму, посвященную вопросам формы, никак нельзя рассматривать только как уклон в эстетство или в формалистику. Ибо и прекрасные темы и намерения, вследствие беспомощности формы, оказываются „пристегнутыми извне“», — писал 29 марта 1929 года другой орган печати, и этим органом была газета «Правда». Как и всегда, она поднималась в понимании не только социального, но и художественного значения вертовской картины на голову выше множества путаных рассуждений специальной кинематографической прессы, та все еще решала (еще долго будет решать), какую же отметку выставить картине и не поставить ли пока Вертова, на всякий случай, в угол.
Статья в «Правде» появилась тоже до выхода фильма, газета хотела оказать давление на прокат, он отметку уже, видимо, поставил, заранее решив, что массовый зритель картину не поймет. «Как будто не в интересах самих прокатчиков, — писала „Правда“. — изощрять вкус зрителей, а не поощрять его отсталость!»
Какое емкое слово для определения взаимоотношений новаторского зрелища с массовым зрителем нашел автор статьи, старый партиец и известный кинематографический деятель Кирилл Иванович Шутко, — изощрять!
Употребив это слово, он одновременно не скрывал, что зрителя ожидает далеко не простая работа. Но это обстоятельство не умаляло ни Вертова, ни зрителя.
Учась языку, Вертов учил других.
Это была борьба за чистоту киноязыка.
За культуру киноречи.
За всеобщую кинограмотность в условиях происходящей культурной революции.
Это был один из участков ликбеза на одном из передовых участков кинофронта.