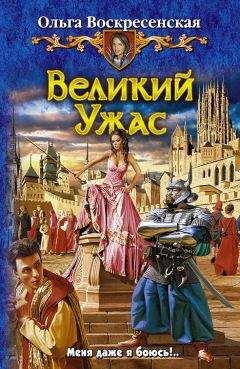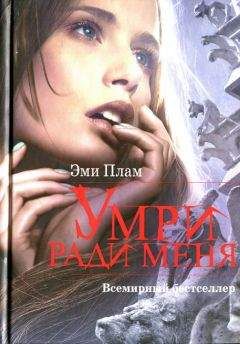Нателла Лордкипанидзе - Актер на репетиции
Тут найдена и названа природа чеховских персонажей, тот их особый секрет, который всегда волновал, но редко давался в руки. Связанное с такой категорией, как время, поэтическое бытие чеховских персонажей, или, вернее, понятие об этом поэтическом бытии, могло меняться и, естественно, менялось во времени, однако главное ощущалось неизменным. Это главное было связано с понятием духовной свободы как непременного условия существования. В той же работе сказано: «Они живут в медвежьих углах тоскливой, невежественной и несвободной страны, погруженные в поток обыденщины, — поток грозит подняться и захлестнуть с головой», и все же способны «быть начеку», чтобы не пропустить совсем иных призывов судьбы (расслышать «зовы новых губ»).
Кончаловский настойчиво вводит в фильм образ времени. Сменяя друг друга в резком, контрастном монтаже, идут вначале и повторяются неоднократно документальные свидетельства тех лет. Тифозные бараки, вымирающие от голода села, страдающие лица детей, бесплодная земля — и роскошь царской охоты, бездуховное благополучие сытых, довольных людей. Отзвук общей беды предопределит и личную судьбу таких, как Астров, дядя Ваня, Соня; предопределит и потребует от них стойкости, терпения, как неоднократно повторял Чехов, подразумевая отнюдь не смирение, но долг перед жизнью и необходимость этот долг выполнить.
Уговаривая дядю Ваню отдать морфий, Соня как самый веский аргумент (наряду с жалостью к ней и матери) приводит, казалось бы, сейчас такой далекий и для Войницкого необязательный, как долг. «Отдай, дядя Ваня! Я, быть может, несчастна не меньше твоего, однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю и буду терпеть, пока жизнь моя не окончится сама собою… Терпи и ты». На это Войницкий говорит тоже, казалось бы, не о том, что сейчас для него главное, — не о любви, не о потерянных надеждах, не о прошедших бесплодно годах, но о работе, как о единственно спасительном. «На, возьми! Но надо скорее работать, скорее делать что-нибудь, а то не могу… не могу…».
Работать — вот возможный выход; «не могу… не могу…» — тоска, которая охватила его и неизвестно, отпустит ли когда-нибудь. Одно — независимо от другого, другого не исключает и в противоречии с ним не находится.
Бондарчук и Смоктуновский тоже не сводят баланса. Помните: «Я посмотрел на Соню и внезапно отчетливо понял, что колесо моей жизни повернулось…» Про себя и про то, что его окружает, Астров знает все — и не боится знать и предполагать самое худшее. Однако деревья он все-таки сажает. Или, может быть, потому и сажает, что знает самое худшее? Да, пожалуй, именно поэтому — жизнь ведь не кончается, когда мы уходим. «Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас… — те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми…».
В роли няни Н. Пастухова
В голосе Бондарчука нет ни мечтательности, ни размягченности. Только что он вынес приговор существованию своему и дяди Вани и отнюдь не склонен лить слезы умиления по какому бы то ни было, даже самому возвышенному, поводу. Просто она сидит в нем — мысль о будущем, как заняты ею и то и дело к ней возвращаются все те, кто — по Чехову — хранит человеческое достоинство.
Вот уже несколько дней подряд, как на террасе — накрытый к чаю стол, и у стола, как ни придешь, сидит и вяжет няня Марина. Актриса Н. Пастухова выглядит и держится настолько по-домашнему, что о ней никак не скажешь — актриса в павильоне. В теплой кофте, в мягких комнатных туфлях, домашняя, уютная — с ней так и тянет поговорить, отвести душу или просто помолчать, думая о своем и машинально глядя, как в ее руках не очень проворно, но безостановочно и завораживающе шевелятся спицы. Сегодня возле няни Марины — Астров. Насупленный, но не сердитый, не злой — просто явно не в себе. Разговор у них, до прихода Войницкого, не длинный, но для Бондарчука чрезвычайно трудный и чрезвычайно ответственный. У его героя тут монолог — пересказ его займет, пожалуй, столько же места, сколько прямое цитирование, поэтому позволим себе привести его полностью.
«Да… Заработался, нянька. От утра до ночи все на ногах, покою не знаю, а ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили… В великом посту на третьей неделе поехал я в Малицкое на эпидемию… Сыпной тиф… В избах народ вповалку… Грязь, вонь, дым, телята на полу, с больными вместе… Возился я целый день, не присел, маковой росинки во рту не было, а приехал домой, не дают отдохнуть — привезли с железной дороги стрелочника; положил я его на стол, чтобы ему операцию делать, а он возьми и умри у меня под хлороформом. И когда вот не нужно, чувства проснулись во мне, и защемило мою совесть… Сел я, закрыл глаза — вот этак, и думаю: те, которые будут жить через сто-двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!»
Тут, в монологе этом, все мотивы, все темы и едва ли не все обстоятельства жизни Астрова — во всяком случае, все определяющие обстоятельства. Если выслушать монолог внимательно, не придется спрашивать режиссера и себя, почему Астров с такой настойчивостью возит с собой фотографию худенькой, наголо остриженной девочки, взирающей на мир печально и отрешенно. И эта девочка, и эти гробы в ряд, и эти убитые горем женщины — нет-нет да проходят они перед мысленным взором земского доктора, и тогда все остальное кажется ему не таким уж важным. Долг, совесть — вот что с годами укореняется в его душе все глубже и глубже. Укореняется — и гложет, и зовет к лесам, к эпидемиям, к составлению безрадостных статистических карт да еще к водке. «Может, водочки выпьешь?» — встретит няня Марина вошедшего Астрова, на что он со смешком и усаживаясь ей ответит: «Нет. Я не каждый день водку пью. К тому же душно».
Монолог Астрова, как и вся пьеса, впрочем, едва ли не погребен под истолкованиями. Все знают, что он должен выразить, как его должно произнести и как его произносили великие предшественники. Актера от всех этих знаний может спасти только одно — конкретная действенная задача. Если эту задачу найти, тогда и слова скажутся легко и не будут так связывающе-самоценны. (А то на каждом — словно пуд висит.) Бондарчука текст пока «держит» — внутренний его эквивалент не найден, не найдено и настроение, в котором Астров начинает эпизод. Сердит ли он на Елену Андреевну, которая его вызвала, написав, что муж болен (Астров приехал, а профессора даже дома нет, гуляет), или, напротив, — рад лишнему случаю побывать у Войницких именно теперь, когда она здесь? Обстоятельство это тоже немаловажно и тоже должно учитываться. И вообще — почему он решил столь откровенно высказаться? Какая тому причина?
Возможно, и даже наверное между режиссером и исполнителем было обо всем этом не раз говорено, но сегодня последствия этих разговоров что-то не очень ощущаются. Кончаловский просит: «Старайся не впасть в пафос и не оправдывай себя — мол, я заработался и это все извиняет», но исполнителю подобного рода общие требования мало что дают. Он и без того старается говорить просто, без «красящих» интонаций, но паузы — мучительные, длинные — выдают степень его напряжения.
Бондарчук вообще работает тяжело — для себя в первую очередь, но и для остальных тоже. Ему все кажется, что эпизод не удается, и он, даже тогда, когда дана команда «мотор!», вдруг останавливается и начинает фразу сызнова. Это — в нарушение всех правил, потому что, когда снимают, остановить съемку может лишь постановщик. Однако Бондарчук не выдерживает. Тут сказывается все: и характер, в достаточной мере властный, и собственная режиссерская практика (раз фальшь — стоп!), но, главное, та отдача роли, которая прорывается сквозь все и сквозь гнев тоже. Сейчас он, например, начинает явно нервничать и конец монолога: «…те, которые будут жить через сто-двести лет после нас… помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!» — произносит недоброжелательно и агрессивно.
Конечно, фразу эту можно сказать и с таким подтекстом: «стараешься для вас, мучаешься, а вы даже и не вспомните», но тогда к нему надо вести с самого начала и к тому же продолжить тему дальше, провести ее через роль. Актер же к раз возникшей интонации больше не возвращается и, кажется, находит то, что ставит эпизод «на место».
Возникают два определяющих и связанных друг с другом мотива: усталость и «великая сушь». Усталость — мотив астровский, личный; «великая сушь» — общий, но до Астрова тоже имеющий непосредственное касательство. Вот когда это определено, верно найденное самочувствие помогает снять и пафос и программность слов, объясняет и исповедь доктора. Это, конечно же, рассказ для себя, объяснение себя — себе же, та минута, когда необходимо высказаться и когда горькие истины, сказанные вслух, не отнимают силы, но странным образом укрепляют их. Будто снова и снова проверяешь свой выбор и, как ни тяжело, признаешься, что иного быть не могло.