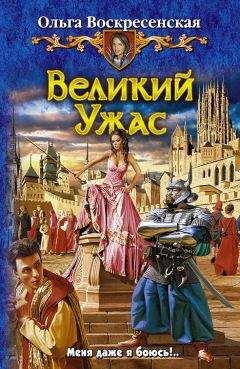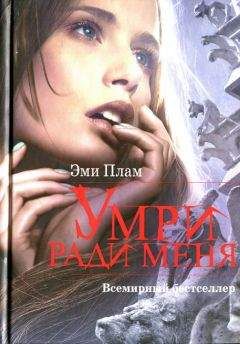Нателла Лордкипанидзе - Актер на репетиции
Режиссерская преамбула ясна, и не только ясна. Она очерчивает границы эпизода, но она же определяет его атмосферу, его глубинное течение. Но при всем том, что исполнителям не нужно больше ничего объяснять, вопросы возникают сразу же, как только дело доходит до непосредственного воспроизведения действия. Вот Олбэни — как он должен встретить Эдмунда, счастливого соперника и государственного преступника, замышляющего переворот? Козинцев считает, что герцог живет горем войны, а не женой, что письмо — лишь последняя капля. Банионис, соглашаясь с ним в принципе, приводит тем не менее и свои резоны: «Я хочу, чтобы у Олбэни было что-то в душе и от письма. Ведь он прочитал его только что и понял, что жена и Эдмунд не остановились бы и перед убийством. Олбэни ждал подобного, но все же… Я хочу быть вначале не очень организованным и только потом войти в колею. Ритм должен быть острее…».
Так они и пробуют начинать — с внятной паузы, которая дает возможность Олбэни взять себя в руки и лишь потом обернуться на шаги Эдмунда, который за это время успеет обменяться с Гонерильей взглядом, таким нужным и ей и ему.
Первая реплика звучит у Баниониса явно нехотя, с отвращением, он едва подымает глаза на вошедшего: «Сэр, вы сегодня выказали храбрость. Вам улыбнулось счастье…». Это не поздравление, не дань вежливости, но просто слова, которые надо произнести, чтобы услышать звук собственного голоса и понять, что он не выдаст и ты сможешь разыграть партию так, как считаешь нужным. Найти себя, еще раз утвердить нравственность принятого решения — от этого возникает и фраза о совести, с которой надо быть в ладу. Сказанная себе, а не Эдмунду, она уместна, в противном случае могла вызвать лишь удивление. А Эдмунда упоминание о совести как раз и выводит из себя. Слово это впрямую соотносится с тем, что он почувствовал в Корделии и Лире и что уничтожает его опору, внутреннее оправдание, необходимое подлецу так же, как и порядочному человеку. (Эдмунд оправдывает себя тем, что его поступки, быть может, и в разладе с совестью, но зато в ладу со временем, что немаловажно.) Мгновенно разозлившись, он отвечает Олбэни почти нагло, вынуждая тем самым и его изменить тон.
Удовольствие, нет, наслаждение наблюдать за репетицией, за точностью, толковостью и интеллектуальностью работы актеров. Если вспомнить полюбившееся нам выражение режиссера о единой образной системе фильма, к которой подключены его участники, то нигде эта сопричастность и художественное осознание целого так не очевидны, как во время предварительного процесса. Результат — и это естественно — может не открыть производственных тайн, здесь — все наглядно. Ты видишь, как художники ищут, ищут осмысленно и целеустремленно, зная, что им нужно и где это искомое скрыто. И все же находка, это именно находка — неожиданная, внезапная и единственная, неповторимая в своем роде.
Так, определив начало и почувствовав себя уверенно, Банионис круто меняет курс, и этот перепад оказывается как нельзя более кстати в общем ритме эпизода. Ритме неровном, горячечном, идущем скачками. Фамильярное обращение Эдмунда: «Я нужным счел больного короля под стражею отправить в заключенье», — это «я нужным счел», как и его рука, сообщнически коснувшаяся руки Олбэни (Регимантас Адомайтис нашел этот жест тоже инстинктивно, и он опять-таки оказался в ряду тех закономерностей, которые так необходимы эпизоду), делают герцога надменным, точнее — предостерегающе надменным. Он глядит на руку с холодным удивлением (Адомайтис тут же убирает ее), высокомерно поднимает голову, но реплику бросает не запальчиво и не гневно, а твердо: «Простите, сэр, я вас считаю подчиненным, а не братом».
И с той поры — а до конца осталось не так уж много, и бесконечно многое надо вместить в короткие эти минуты — он в общем-то один по-настоящему осознает, что говорит и что делает. И даже когда он бросает перчатку Эдмунду, вызывая того на поединок, хочется сказать, что он кладет ее. Это не игра в благородство, но выстраданная решимость драться самому, отринув преимущество положения и не дав приказа взять Глостера под стражу как изменника. И на миг забыв об Эдгаре, как забывает о нем и Олбэни, мы, испугавшись за героя, ловим себя на мысли об его опрометчивости. Ну кто оценит его безрассудное благородство!
Не знаю, входят ли наши опасения, возникновение этих опасений в круг задач, поставленных перед собой актером и режиссером, или они так называемый «побочный продукт», но то, что Олбэни не предстал хладнокровным и расчетливым победителем, заставляет подумать о многом, и прежде всего о цене победы.
Эта мысль приходит не только в связи с Олбэни; в связи с другими тоже. Трагический момент настает в пьесе едва ли не для всех — не только для одного Лира. Замечание Брехта о «титанах Шекспира… неукротимых… в своей безумной одержимости» как нельзя более полно определяет предпосылки трагического. Не саму трагедию, но изначальную возможность ее, зерно, из которого она при соответствующих условиях прорастает. В данной ситуации потенциальная возможность реализуется — речь не о смерти, но о крушении надежд, которое привело к смерти, и о предощущении истины, которая исчерпала смысл дальнейшего существования.
Эпизод «Палатка» меньше всего эпизод, где сводятся счеты, где правый торжествует, а виновные наказываются. Здесь не подведение итогов, а все то же мощное движение жизни, вовлекающее в свой ход судьбы персонажей. Отсюда — динамика и драматизм сцены, отсюда — сама возможность динамики и драматизма. Ужасна Гонерилья, убивающая Регану, но через минуту, увидев поверженного Эдмунда, умрет и она сама; в горячке нравственного крушения гибнет младший Глостер и перед кончиной содрогается от собственных злодеяний, а не от страха смерти.
Актеры еще не знают финала, но идут к нему такому, и только такому. Идет Галина Волчек, когда при взгляде на Эдмунда и сестру кровь бросается ей в лицо, и, не помня себя, она обнимает любовника, готовая защищать свое право на него до последнего вздоха. Идет Эльза Радзинь, в оцепенении, механически беря кубок с вином и, почти не таясь, всыпая в него яд. В ее фразе «я разбираюсь в ядах хорошо» не будет ни торжества, ни злорадства, а лишь необходимая констатация факта — «я разбираюсь в ядах хорошо». Но что мне теперь от этого — могла бы она добавить. И Регимантас Адомайтис будет напряженно сидеть между двумя женщинами (мизансцена такова: в тесном пространстве палатки, еще более тесня его, — стол, за которым друг против друга четверо), вовсе не боясь, что выяснится, как он обманывал обеих, но болезненно вслушиваясь в то странное, что творится сейчас в его душе. Удачливый Олбэни рядом с такими людьми был бы просто пошл и бестактен. Режиссер и исполнитель понимают это лучше других.
Глостер — К. Себрис
Эдгар — Лео Мерзинь
Но «Палатка» уже кончилась, идет «Поединок», в буквальном смысле идет, мерцает на экране, потому что он снят и мы его видим. Видим серое, хмурое небо — дождь кончился, но он скоро снова пойдет, видим растоптанную, вязкую землю, видим воспаленных, угрюмых, усталых воинов. Предстоящий бой — еще один бой после только что окончившегося сражения — лишь поверхностно задевает их любопытство, и труба герольда, прозвучавшая уже трижды, не вносит в их ряды заметного волнения. И даже когда появляется Некто в глухом забрале, ответивший на вызов, даже он не может заставить их забыть про усталость.
Режиссер хотел снять антивальтерскоттовский поединок, и он его снял. Нет торжественности, красоты и привычного благородства боя, которому якобы дано рассудить, кто прав, кто виноват. Есть пот и кровь двух людей, сошедшихся в смертной схватке, есть боль и муки конца одного из них, есть бесконечная душевная опустошенность другого. Эдгар — Лео Мерзинь и Банионис в чем-то неуловимо схожи в этом эпизоде. Скорей всего, тем, что их ужаснет и им претит происходящее. Эдгар не в силах взглянуть на поверженного брата, а глаза Олбэни выдают всю степень его смятения. Он первым бросается к Эдмунду, и слова «не добивай его» — это не слова. Но даже если бы они не были сказаны, мы все равно поняли бы, что он испытывает, видя еще одну смерть, гибель еще одной жизни. Пройдя все нравственные искусы и испытания, герой Баниониса остается верен себе.
«Калина красная»
Фильм снимался вразбивку. Вначале — натура, потом — павильоны. Павильоны тоже шли как попало: готовность декораций и прочие технические причины играли тут не последнюю роль. Мы в наших заметках хотели выстроить эпизоды по порядку — казалось, так будет точнее, однако, начав, поняли, что это невозможно. По мере того как снималась картина, в герое ее что-то менялось. Нет, никаких кардинальных перемен в характере не было, нельзя даже сказать, что он углублялся, укрупнялся, но просто каждый день, прожитый Шукшиным в образе Егора Прокудина, накладывал отпечаток на его дальнейшее существование.