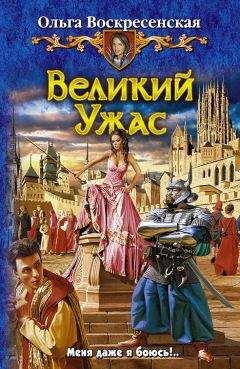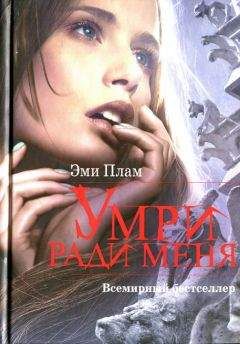Нателла Лордкипанидзе - Актер на репетиции
У Кирилла Лаврова и то и другое присутствует, и потому возникают детали точные и неожиданные. Такая, например, деталь, как улыбка: когда он, наконец, дал Хлестакову деньги, тень ее прошла по его напряженному, измученному лицу. Улыбка была не самодовольная, не торжественная, но человеческая — так можно про нее сказать, и сказать с полным правом, потому что, повторяем, Лавров рисует не монстра, а живое лицо. «Толстоносый» — это не его герой; такое понятие о городничем для Лаврова штамп, способный низвести уровень пьесы до хрестоматийных прописей. Именно поэтому обаятельную свою, «лавровскую», улыбку актер обаятельной оставляет. Что-что, а однозначного отношения к героям ленинградский спектакль вызвать не стремится — мы не сидим в своих креслах в позе непогрешимой добродетели, которая только и знает, что брезгливо морщится. Нет, то, что происходит в «Ревизоре», касается и нас, и нас затрагивает та мысль, которую хочет утвердить исполнитель. А он хочет внушить нам: «Какая это мерзкая штука — страх; моя задача, как актера, — его развеять».
Отнюдь не утрированные, но психологически точные, житейски обоснованные действия городничего не вступают в противоречие с сатирической направленностью происходящего. В том же эпизоде после «улыбки» была еще одна, столь же неожиданно найденная и столь же приставшая образу деталь. Помните, Хлестаков упоминал, что клопы «как собаки кусают»? Так вот, городничий этого клопа ловил. Увидел, как тот ползет по стене, палец послюнил и клопа на этот мокрый палец наклеил. Был негодный клоп, которому и на свет не следовало родиться, — и нет его, не докажешь, что был. Как тот таракан в филипповском хлебе, которого небрезгливый хозяин на глазах у покупателя съел, а потом стал выпекать булки с изюмом, чтобы безгрешность свою подтвердить. В детали, найденной театром, есть все: и мера падения героя, и отношение актера к происходящему, и повод для нашего с вами смеха и размышлений.
Городничий был куда как мил, Хлестаков оживал, расцветал, понимал, что в его судьбе случилось нечто необыкновенное. Спектакль и дальше сохранит в герое эту удивленную ноту, а вместе с ней мысль о том, что пущенная в ход государственная машина вначале перемалывает человека, а потом лепит из него то, что ей нужно. Антон Антонович человек уже вылепленный. Иван Александрович тоже перемолот и создается заново и в кого обратится — тоже можно распознать, но на самом дне его души есть что-то, что трепещет из последних сил. Когда Хлестаков, уже жених, прощается с Марьей Антоновной, на его глазах непритворные слезы. Сердце его, хоть на минуту, но с этим домом, где ему было так хорошо, с этой девушкой, которая у Теняковой не проста и не однозначна вовсе. И потому, когда городничий спросил его: «Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь?», Хлестаков едва ли не с плачем восклицает: «О нет, к чему это?» Деньги он, правда, потом возьмет и коврик для брички тоже, но как-то потерянно, без азарта, без охоты. Возьмет еще потому, что увидит сердитый взгляд Осипа, и не посмеет отказаться.
И опять-таки театр не побоится, что шевельнется у нас в душе нечто похожее на сострадание. Человек погублен, живая душа в нем пропала — не один ведь тут только смех. Да и как при одном смехе возникает гоголевский вопрос: «Отчего человек, рожденный для высокого, становится мучителем и разорителем ближнего своего?»
Мы уже начали говорить о спектакле, потому что подробных репетиций больше не видели. Видели прогоны, и режиссер останавливал действие, когда что-то не ладилось, но больше тут ладилось, и нередко случалось такое, что только от души могло получиться. От души тех, чьей жизнью уже зажили исполнители.
Хлестаков в упоении после «фриштика» в богоугодном заведении. И губернская мадера там была, и бутылка толстобрюшки, и таинственная рыба лабардан. Все было прекрасно, и он разоткровенничался. Иван Александрович в подпитии и даже очень, однако смекнул, что разговоры о высших сферах приводят здешнюю публику в подобострастное изумление. (Товстоногов говорит: Хлестаков делает то, что от него ждут. Человек он недалекий, но интуиция у него есть — как радар. Именно поэтому начал свой рассказ с коллежского асессора, а кончил тем, что произвел себя в фельдмаршалы.)
Мизансцена построена так, что Хлестаков — над слушателями: взобрался на клавикорды и оттуда ораторствует. Но вдруг, отчетливо увидев стоящих чиновников (до этого он на них тоже смотрел, но не видел), он приказывает им сесть: «Без чинов, прошу садиться. Я не люблю церемонии». Положение затруднительное — стул один, а их сам-шесть: и сесть нельзя, и отказаться немыслимо. И они садятся: теснясь, на краешек, опускаясь к ножкам стула, а бедный Хлопов, который, как всегда, мешкает, присаживается на колени «самому». «Что поделаешь, — словно говорит его скорбный взор в ответ на гневный взгляд городничего, — что поделаешь, я не виноват».
Пластическая группа эта так хороша, что лучше, кажется, быть невозможно. И преданность в ней, и искренность восторга — с каким вельможей имеем дело! — и легкий испуг, и еще много всего, что словами не обозначишь, но что тем не менее читается ясно, когда они вот так превосходно сидят.
Находка повторяется дважды, и во второй раз оттенок ее чуть-чуть меняется к еще большей остроте и комизму. Во второй раз чиновники уже почти не суетятся — приладились, и вроде бы так и надо: вшестером на одном стуле, но зато под благосклонным взглядом начальства.
Тут важно отметить, что подобного рода подробности возникают от общего верного хода мыслей и чувств, от раскрепощенности и подготовленности актеров и что они воспринимаются как естественные и закономерные именно вследствие верности общего. Если бы с первого эпизода ритм внутренней жизни персонажей был не так насыщен (Товстоногов говорил во время репетиции: «Темп можно медленный, но ритм высочайший»), и другая сцена, сцена взяток, тоже могла бы показаться преувеличенной. Ну с чего, в самом деле, все реплики, которые надо скрыть от Хлестакова, судья произносит тем же громким и отрывистым голосом, каким он разговаривает всегда? И при этом пристально на того же Хлестакова смотрит? А оттого, что чиновники сейчас в состоянии крайнем — стрессовом, как сейчас говорят. Удастся им дать взятку — они на коне, не удастся — та самая тележка, о которой вслух грезит Ляпкин-Тяпкин: «О боже! вот уж я и под судом! И тележку подвезли схватить меня!»
Поэтому не кажется кощунственной, а, напротив, воспринимается как самая точная и та гамлетовская интонация, с которой Хлопов спрашивает себя: «Брать или не брать?» Режиссер удивляется: как раньше никто этого не почувствовал? Аналогия напрашивается сама собой…
И решение финального монолога тоже кажется донельзя убедительным, хотя Лавров произносит его с неподдельным отчаянием. Искренность городничего тут несомненна, а для актера несомненно, что «современность нашей работы в том, чтобы люди видели процесс жизни. Если они в него поверят, то неизбежно извлекут для себя нравственный урок».
Театр учит, как жить, а не как поступать в том или ином конкретном случае. Как поступать — примеров тому в «Ревизоре» Большого драматического вы не найдете. Как театр призывает жить, поймете, потому что и гнев его и боль — очевидны.
«Гойя»
Из разговоров о роли:[1]
— Чего вы добиваетесь? Насколько я понимаю, вы не стремитесь создать копию реального человека, тем более что о нем не так уж много известно?
— Нет, не в этом дело.
— Тогда в чем же? Вы думаете об образе, наблюдая за которым можно было бы понять, что такого рода человек способен создать «Капричос»?
— Нет, и это — нет. Я хочу показать, как трудно художнику найти свой путь. Скольким надо жертвовать и от сколького отказываться — от славы, от денег, мало ли от чего еще. Это мне интересно, а остальное — нет. Играть историческое лицо просто не могу, не хочу. Все видят в «Капричос» определенные символы, разглядывают их, а для роли важно другое: душевный надлом, глухота — все то, чем заплатил Гойя за свою работу…
«Дом глухого» — «Кинта дель Сордо» — был полон странными, внушающими опасения фресками. Что мог, например, значить этот Сатурн — гигантская фигура обнаженного старика, пожирающего людей? В его разверстой пасти уже исчезла голова человека, и теперь он тянет в рот его окровавленную руку. А двое пастухов — или простолюдинов — не важно, — молотящих друг друга дубинами? Они дерутся яростно, они ослеплены дракой, зато мы, видящие их со стороны, не можем сдержать горький смешок. Ноги дерущихся — по колено в песке, в зыбучем, засасывающем песке… Что даст победа любому из них?
И еще раз мы видим песок в удивительной, завораживающей нас фреске «Голова собаки у подножия утеса». Картина охристая, оливковая, сероватая, клубящаяся. Утес тут едва намечен, это просто сгустившийся воздух, и голова собаки не столько определена линией, сколько тоже угадывается. И все же это собака, несомненно, и взгляд ее тосклив, и кажется — слышишь предсмертный, жуткий, протяжный вой.