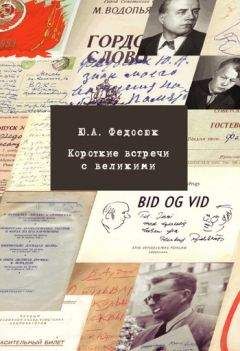Артур Уолтермайр - Женщина в черном и другие мистические истории
В моей памяти снова возникла рослая тибетка, окруженная сворой лающих псов, с каким удивлением она смотрела на полученные от меня деньги.
И вдруг я понял: судя по ее недоумению, женщина не знала, что случайно упустила подхваченный мной амулет, который выскользнул у нее из пальцев, пока тибетка потрясала в воздухе серебряной цепочкой — вот почему у нее было такое изумленное и растерянное лицо, когда она ловила и прятала монеты. Но как бы там ни было, я заплатил за амулет, и теперь он принадлежал мне. Успокоив себя этой мыслью, я наконец лег в постель.
Не знаю, долго ли продолжался мой сон, когда внезапно меня разбудил звон бьющегося стекла. Я вскочил и услышал еще какой-то звук, напоминающий шелест крыльев.
Огонь в камине догорел, а едва тлеющие угли не освещали ни потолка, ни стен.
Я зажег лампу и увидел темное существо, размерами с небольшую сову, перелетающее из угла в угол. Взобравшись на стул, я разглядел, что это крупный нетопырь-вампир. Я накинул халат и, распахнув дверь, окликнул коридорного: внизу в холле всегда сидело несколько человек, у которых было ночное дежурство. Один из них поднялся ко мне, схватил с постели покрывало и, размахивая им, выгнал нетопыря в окно.
При этом мы обнаружили, что в углу разбито стекло, однако у меня не укладывалось в голове, что виновником мог быть нетопырь — существо с мягкой плотью и хрупким скелетом.
В эту ночь я уже не спал. Оставил зажженную лампу и велел бою подбросить дров в камин. Потом я уселся поближе к огню и погрузился в чтение — то есть, собирался это сделать, однако не раз прерывал свое занятие, поскольку мне чудились шаги на галерее, куда выходило разбитое окно.
Я говорил себе, что это, должно быть, коридорный, который хочет проверить, не погас ли огонь в камине, и, не желая меня беспокоить, тихонько подошел к номеру с тыльной стороны.
Примерно час спустя я вдруг ощутил резкий цветочный аромат; закрыл глаза и, откинув голову на спинку кресла, задумался, мог ли ночной туман, наплывающий с чайных плантаций, принести с собой этот дурманящий запах. Казалось, он проникает в комнату через разбитое окно, я даже заметил расходящийся в воздухе невесомый голубоватый парок и хотел встать, чтобы заткнуть дыру в стекле полотенцем или шарфом.
Однако мысль о том, чтобы встать с кресла, всякий раз оставалась лишь рождающимся в моем мозгу бесплодным намерением. Глаза мои слипались. Какое-то время я еще держал в руке книгу, но она казалась все больше и тяжелее, пока не выросла передо мной, будто стена. И сколько я ни пытался подняться — эта книга-стена упорно преграждала мне путь. Я находился уже не в комнате, но в книге, и мне чудилось, что она вот-вот захлопнется и раздавит меня своими чудовищными страницами. При этом от нее исходил сладковатый аромат, подобный тому, какой издает старый шкаф, пахнущий сухими цветами и лавандой. И в этом смешанном ощущении блаженства и гнетущей тревоги пребывал я, казалось, целую вечность, и в моем состоянии не было заметно никакой перемены. Очнулся я от стука. Кто-то стучал внутри моего черепа, громко и настойчиво. Теперь мне почудилось, будто этот стук продолжается бесконечно давно. Глаза мои, открывшись, остановились на пламени камина. За окном было еще темно. Стучали сразу в несколько дверей — будили постояльцев.
И тут я вспомнил, что собравшееся в гостинице маленькое общество уговорилось встать в четвертом часу утра и при лунном свете, горной дорогой отправиться через перевал к расположенному двумя тысячами футов выше Тайгерхилл, откуда можно наблюдать восход солнца над Эверестом и другими гималайскими исполинами.
В комнате все еще чувствовался сладковатый, дурманящий запах. Одевался я в полусне. Потом вошел коридорный с чаем и сообщил, что лошади уже оседланы и ждут перед верандой.
Несколько минут спустя, очутившись в седле, я наслаждался чистым горным воздухом, сияющим в небе ясным полумесяцем и свежим, недавно выпавшим снегом, быстро позабыв о странном цветочном аромате и часах тяжелой дремоты, которая была сродни, скорее, мучительному кошмару, нежели здоровому сну.
На узких горных тропках, где лошади должны были ступать осторожно, одна за другой, смолкли болтовня и смех. Казалось, мы движемся не по земле, но по небу, вдоль края облачной гряды. Свет, отбрасываемый луной, был слишком слаб, чтобы проникнуть в бездну Гималаев. Море мрака подступало вплотную к вьющейся по горному хребту дороге, на которой едва умещались рядом две подковы. Деревья, настолько старые, что уже не покрывались листьями и торчали, будто одетые в саван из мха скелеты, отрезанные от земли мглой и снегом, казалось, свисали с неба. Некоторые из них походили на остовы гигантских нетопырей, огромных, словно дом. Эти жуткие деревья и жасминово-белый месяц в зеленоватом беспределье ночи снова напомнили мне о недавних приключениях. Но широко разверстые, бездонные пропасти Гималаев, созерцая которые, казалось, можно проникнуть взглядом столь же далеко в глубь земли, как в ночное небо, эти пропасти, по чьему краю лошади ступали боязливо и неуверенно, беззвучно ныряя копытами в осыпающийся снег, точно балансируя между жизнью и смертью, эти пропасти поглотили все мысли и воспоминания, гипнотизируя меня еще больше, чем прежде запах цветов.
Единственным осколком реальности оставался теплый, пахнущий потом хребет укачивавшей меня лошади, тогда как сонные чары призрачного пейзажа, мешаясь с сонливостью моего все еще одурманенного разума, влекли меня в бездну.
Наконец мрак начал понемногу рассеиваться, и до Тайгерхилл мы добрались уже в голубовато-серой предрассветной дымке.
Здесь нас уже ждали посланные вперед тибетцы. Они развели большой костер, но дерево было сырое и, скорее, тлело, чем горело по-настоящему, хотя снег вокруг все-таки растаял. Мы, как могли, пытались согреться у огня, разминая свои закоченевшие во время поездки ноги, притопывая, вертелись около костра и коротали время, попивая чай, в ожидании первых проблесков солнца.
Вдруг кто-то рядом со мной воскликнул: «А вот и продавец бабочек!» — так прозвали торговца англо-немецкого происхождения, державшего в Дарджилинге лавочку с тибетскими редкостями, занимался он также продажей гималайских бабочек и даже пересылал по заказу в Европу наиболее эффектные экземпляры.
Понятия не имею, как он очутился на Тайгерхилл — то ли встретился нам, возвращаясь ночью откуда-то из глубины гор, то ли сопровождал от самого Дарджилинга. Когда я услышал слова «продавец бабочек», мне вспомнился диковинный бубен, который двумя днями раньше я приобрел в его лавочке. Бубен этот был сделан из двух черепов, мужского и женского. Их соединили макушками и обтянули кожей, так что бубен получился как бы двойным. Стоило им потрясти — и заключенный внутри шарик из слоновой кости, перекатываясь, без устали ударялся то о череп, то о мембрану. Продавец бабочек сказал мне тогда: «Я купил его у жреца одного из тибетских храмов. Это черепа прелюбодея и прелюбодейки. Бубен этот ежедневно использовали во время богослужения, ибо прелюбодеи, связанные навечно, не должны обрести покой даже в смерти. Палач, изрубивший на поживу хищным птицам на жертвенном камне возле святилища останки тех, что нарушили клятву верности, имел право смастерить из их черепов такой инструмент.»
Нелегко было торговцу заполучить этот храмовый бубен.
Должно быть, разреженный воздух вершин послужил причиной того, что я вдруг услышал грохот — словно мрачные пропасти Гималаев превратились в гулкие черепа клятвопреступников.
«Слышите: это лавины, которые на восходе солнца низвергаются с горных круч», — произнес кто-то рядом.
Тотчас воцарилась тишина. Ни единая ложечка не звякнула о чашку, ни под чьей ногой не скрипнул снег. Только лошади, тревожно раздувая ноздри, пряли ушами. И вот, из облачной завесы над бездной выступило могучее плечо исполина, затем пышные розовые груди, гигантский торс, руки, бедра. Это были очертания Эвереста и Канченджанги, покоящихся на ложе из тумана, словно пара нагих великанов выше, чем месяц.
«Солнце…» — шепнула одна из дам.
Я повернул голову и через плечо взглянул на полыхающую багрянцем лавину, которая, стремительно скатываясь по одетым мглою кручам, все более разрасталась и разгоралась — это было солнце. Разливаясь, будто пурпурное половодье, оно струилось кровью в жилах ледников, превращая бездушные снега в живую плоть.
И тогда, в наиторжественнейший миг восхода солнца, кто-то взял мою руку, опустил ее в карман жилета и шепнул: «Где купленный тобой вчера амулет? Вглядись: разве эти пробужденные солнцем исполины не подобны мужской и женской фигуркам с амулета, который ты получил минувшим вечером от тибетки?»
Но амулета в кармашке не было. Вместо этого там лежали три крупные серебряные монеты, которыми я за него заплатил.