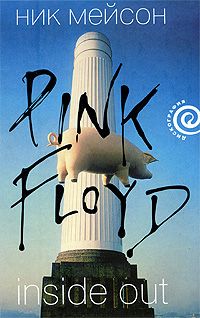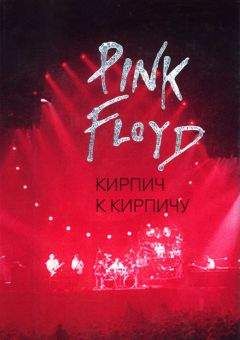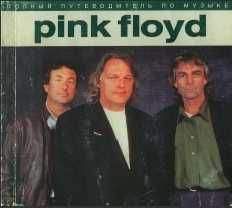Жак Казот - INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков
Вероятно, это и в самом деле причиняло ему муки; быть может, превратилось в род болезненного суеверия — но, как бы то ни было, он впал в еще более мрачное расположение духа, стал необыкновенно раздражителен и порой не мог уже утаить, что дочь внушает ему ужас и ненависть. Он испытывал необъяснимое отвращение к некоторым из ее нарядов, к каким-то ее жестам или же интонациям.
Отныне именно он подмечал черты сходства, возрастающего с каждым днем. Именно он называл ее Пакрет, не в силах устоять перед очевидностью.
— Друг мой, — говорила ему жена, — не могу понять, отчего вас так огорчает это сходство. Ведь если Провидению было угодно забрать у нас дитя, разве не утешительно увидеть его вновь в этой девочке, словно само небо, тронутое нашим горем, решило вернуть нам то, что мы утратили? Я стараюсь забыть… и иногда мне это удается… И мне хотелось бы верить, что Пакрет всего лишь сменила имя, как ее мать.
— Да, вы правы, — отвечал Рувьер в замешательстве, — но меня это вовсе не огорчает… вы ошибаетесь.
Тем не менее день ото дня глаза его все больше тускнели, все более измученным становилось лицо; ничто уже не влекло его — ни богатство, ни почести. Он отдал бы все, чтобы бежать из супружеского дома или же отправить куда-нибудь девочку — но не смел даже заговаривать об этом. Наконец болезнь его обрела все симптомы глубочайшей ипохондрии.{404}
В покоях мадам Рувьер находилась одна комната, некогда заброшенная, а теперь превратившаяся в любимый уголок для девочки, ибо ей разрешили держать там свои игрушки. Все стали называть эту комнату комнатой Пакрет, и мать с бабушкой взяли за обыкновение заниматься здесь вышиваньем, чтобы не расставаться с обожаемой малышкой. Они проводили тут по нескольку часов утром и вечером. Когда госпожа Рувьер не принимала, она порой оставалась там на целый день, а если не ждала домой мужа, приказывала подавать сюда еду.
Эту комнату Рувьер не выносил и старался не входить в нее, если это можно было сделать, не привлекая к себе внимания. Разумеется, попроси он жену избрать другое помещение для своих занятий, та немедленно вернулась бы в будуар. Но он больше всего боялся показать, какой страх вызывает у него эта часть дома; иногда, невольно вздрогнув на пороге, он поспешно объяснял это сквозняком, сыростью или нездоровьем.
Перед камином находилась большая мраморная плита белого цвета — посреди нее виднелась черная инкрустация, очертаниями напоминавшая греческий крест.{405}
Когда госпожа де Мейак и госпожа Рувьер садились по углам камина, Пакрет — поскольку имя это в конце концов возобладало над другими — носилась по этой плите, чтобы вскарабкаться на колени то к матери, то к бабушке.
Рувьер терпеть не мог эту игру и всегда стремился увести дочь подальше от камина; порой он даже уносил ее на руках, пользуясь любыми, самыми невероятными предлогами.
Однажды вечером приехала госпожа д’Эйди, чтобы провести вечер среди родных, — она заняла место перед самым очагом. Дрова едва теплились, ибо стояла ранняя осень. Пакрет, свернувшись клубочком в ногах у троих дам, старательно рисовала ромашку черным мелком на белом камне.
Рувьер, войдя, не сразу ее увидел.
— Где же Пакрет? — спросил он после обычных приветствий.
— Здесь, — ответила мать, показав глазами на плиту.
В комнате была лишь одна зажженная лампа, к тому же прикрытая абажуром — она заливала ярким светом столик для вышиванья, оставляя все прочее в темноте. Если бы не это, то можно было бы увидеть, что взгляд Рувьера стал неподвижным, а волосы дыбом поднялись на голове.
Но в это мгновение девочка, вскочив, ринулась к отцу, заливаясь тем радостным звонким смехом, по которому все ее узнавали.
— Папа, папа, — кричала она, — посмотри, как я рисую свой портрет.
И она повлекла несчастного к камину; затем, встав на колени, обвела пальчиком рисунок — ее белокурая головка, склонившаяся над плитой, казалась золотым венчиком весеннего- цветка.
— Вот и я! Вот и я! — восклицала она, по-детски хохоча.
И тут Рувьер обмяк, лишившись чувств.
Его подняли, дали понюхать флакончик с солями, а потом отнесли в постель.
— Положительно, муж мой страдает от непонятной болезни, — сказала госпожа Рувьер, — и я должна этим заняться. Нужно пригласить к нему доктора.
В самом деле, на следующий день у Рувьера открылся сильный жар, и он стал бредить.
Был призван доктор***, получивший известность в медицинском мире благодаря искусному врачеванию душевных болезней.
Понаблюдав за больным в течение нескольких дней и предписав успокоительное, он известил семью, что у господина Рувьера сильное расстройство рассудка и что его следует оберегать от всяческих треволнений.
Затем он стал расспрашивать, с умением и тактом, по достоинству ценимыми его клиентами, какие причины могли вызвать или обострить недуг.
Однако многие обстоятельства, с тех пор вполне прояснившиеся, тогда осознавались весьма смутно — обитатели дома, еще не собрав факты воедино, упустили множество мелких деталей. Вот почему прославленный эскулап лишь в самых общих чертах узнал историю исчезновения Маргариты де Марнеруа и необычного сходства обеих Пакрет.
Тщательно рассмотрев все сведения, которые смог выведать, он не стал заострять на них внимания, ибо не хотел навести родственников на мысль, которой и сам старался не допускать.
Однако чем дольше изучал он этот больной рассудок, тем сильнее укреплялось в нем роковое подозрение. Было очевидно, что причиной психического расстройства явился страх. Но чем был вызван подобный ужас? Суеверием недалекого ума? Или же голосом преступной совести?
После описанной нами сцены бред у больного не прекращался. Доктор, заметив, как ухудшается состояние его пациента при виде жены и дочери, велел им приходить не слишком часто.
Таким образом, он подолгу оставался в одиночестве у постели господина де Рувьера и мог, не опасаясь нескромных ушей, беседовать с больным в надежде либо получить объяснение, либо добиться признания.
Но ему не удалось услышать ничего, кроме бессвязных двусмысленных фраз.
— Это призрак, — говорил Рувьер, глядя безумным взором, — это не моя дочь… Доктор, это обманчивое видение… Не верьте, что эта девочка с черными бровями и светлыми волосами — существо из плоти и крови… Нет… нет! Не верьте…
Но вот однажды у помешанного, казалось, наступило некоторое просветление; он склонился к врачу с доверительным видом.
— Вы знаете, — сказал он, — тогда она была такая невоспитанная! Сколько от нее было шума! Доктор, вы представить себе не можете, как она была невыносима! В тот день она играла на лестнице и вопила во все горло! От ее крика у меня голова раскалывалась! Я толкнул ее… она скатилась вниз… Я услышал глухой звук… и побежал… побежал изо всех сил…
Безумец вдруг умолк, с ужасом озираясь вокруг.
Врач слушал, приоткрыв рот, не в силах унять дрожь. Он не хотел задавать вопросов из опасения прервать рассказ.
Чтобы побудить больного продолжать и преодолеть сомнения, он повторил последние слова:
— Я услышал глухой звук… и побежал… побежал изо всех сил…
— Да, да! — воскликнул Рувьер. — У нее была пробита голова… она хрипела… ужасно хрипела. Я взял ее на руки… чтобы помочь… Но она хрипела все громче… Могли сбежаться люди… я обхватил ей горло, чтобы она замолчала… и машинально надавил… Она умолкла. И тут я увидел синие следы от своих пальцев у нее на шее. Что мне было делать? Я испугался, доктор, я очень испугался… и спрятал ее… Как могла она воскреснуть?
Доктор чувствовал себя раздавленным под тяжестью этой ужасной тайны. При мысли о кровавых бесчестных деяниях, что были скрыты для всех и погребены в его душе, как в могиле, сердце у него мучительно заныло.
Какие бездны таятся в сердце врача, нотариуса и исповедника!
Доктор делал все, чтобы успокоить безумца, но не мог бороться с причинами болезни. Однако жар удалось сбить при помощи холодных компрессов, и больной впал в состояние полной апатии. Тогда врач предложил госпоже Рувьер поместить мужа в клинику, дабы обеспечить ему всестороннее лечение.
Но молодая женщина не верила, что положение столь опасно. Ей удалось убедить себя, что внешнее спокойствие мужа предвещает выздоровление, и она воспротивилась его отъезду из дома.
— Пока о его болезни знают только в семье. Если же отправить его в клинику доктора***, то всем станет известно, что он потерял рассудок.
Поэтому, как только Рувьер начал поправляться, она переселилась в его спальню и стала ухаживать за ним, стараясь пробудить в нем память.
Доктор все же настоял, чтобы Пакрет временно удалили от отца, и бабушка отвезла ее в загородное имение.
Госпожа Рувьер была неспособна заподозрить в преступлении любимого мужа. Она даже винила себя за то, что способствовала его болезни, постоянно толкуя о сходстве обеих дочерей, для нее уже неразличимых. Теперь она стремилась окружить супруга нежностью и заботой; всеми помыслами ее завладело единственное желание — вернуть его к реальной жизни.