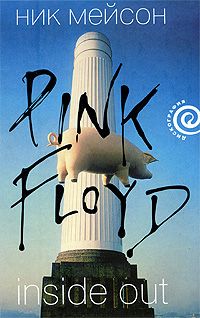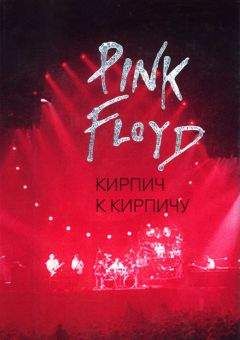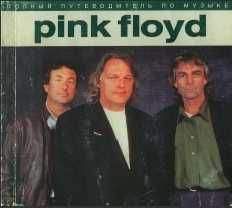Жак Казот - INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков
Увидев это, бухгалтер вскочил как сумасшедший и стал кричать во весь голос, призывая кого-нибудь на помощь.
Ноден сидел в своем кресле, загораживая выход. В одной руке он сжимал стопку банкнот, а другой крепко держал ключ, сцепив пальцы последним усилием воли.
Нежо кружился в застекленной клетке, ставшей для него пожизненной тюрьмой, словно в адском кругу. Он громко звал на помощь, но в доме было пустынно, и голос его терялся в безмолвии смерти. Он оказался в окружении своих жертв, словно среди вражеского войска. Неподвижные трупы стали прочнейшей стеной, которую он был не в силах преодолеть. Он молился, плакал, рвал на себе волосы, обещал искупить содеянное вечными муками — но ужасное видение не исчезало.
Только временами он чувствовал, как струятся вокруг него капли ледяной и зловонной жидкости.
Чтобы выйти, надо было вырвать ключ из окоченевшей руки кассира, а затем оттолкнуть в сторону труп, мешавший пройти. Нежо, собрав всю свою волю, несколько раз пытался исполнить задуманное. Но едва он касался безжизненного тела, едва ощущал холод воды, каждая капля которой, казалось, пронизывала до костей, как тут же застывал на месте, будто какая-то невидимая сила отталкивала его — и ему приходилось цепляться за решетку, чтобы не упасть.
Так прошли многие часы — долгие, как агония, ужасные, как муки ада.
Наконец посреди ночи Нежо услыхал отдаленный ропот — постепенно нарастающий, как если бы проносился от одной улицы к другой. Это напоминание о жизни придало ему смелости: устремившись вперед, он резко отпихнул труп, вырвал из рук мертвого банкноты и ключ, а затем бегом устремился к дверям склада. Он попытался разглядеть замочную скважину, но перед глазами у него плыли круги — тогда он стал засовывать ключ на ощупь, но дрожащие руки не слушались.
А ропот все приближался.
Казалось, будто собирается некая толпа, постепенно окружая дом. Слышались крики и восклицания.
Нежо с лихорадочной поспешностью вертел ключ в скважине, но открыть не мог. Тогда он начал трясти дверь, наваливаться на нее всем телом, колотить ногами — от страха силы его словно удесятерились. И вот дверь поддалась.
Он уже хотел ступить на порог, но путь ему преградила живая стена. Столпившиеся у дома люди, чьи голоса он слышал изнутри, трепеща и негодуя, требовали мести.
Он не успел еще рассмотреть ни одного лица, разобрать ни одного крика, а чьи-то крепкие руки уже схватили его.
— Именем закона! — торжественно возгласил судебный чиновник.
Оглушенный бухгалтер не оказал никакого сопротивления.
Его оттащили в сторону, открывая проход; двери распахнулись, и пред толпой возникли трое носилок, покрытых черной тканью.
Узнав тела невестки и приказчиков, Нежо испустил последний, пронзительный и отчаянный вопль — ответом же ему был торжествующий крик толпы.
— Это он! — в ярости повторял народ. — Он преступник, убийца!
— Люди видели, что он вернулся один, прячась во тьме, как злодей!
— Он забыл, что прилив, принеся трупы к берегу, разоблачит его преступление!
— Нашли его лодку и окровавленное весло, которым он ударил сестру!
— Вот украденные им деньги! Этот вор хотел скрыться с ними!
Трупы перенесли в часовню, а связанного Нежо пришлось отправить в тюрьму на носилках. Ему предстоял суд. Против него было собрано множество улик, и, если бы он не впал в очевидное для всех помешательство, его неминуемо приговорили бы к смертной казни.
После трех месяцев следствия судья постановил заключить его в отдельную палату сумасшедшего дома.
Там он и умер десять лет спустя.
В свидетельстве о смерти, датированном 18 июля 1850 года, главный врач больницы оставил следующее заключение:
«Скончавшийся сегодня № 72 был помещен в лечебницу для помешанных по решению Уголовного суда в 1841 году. Все это время он был подвержен постоянным приступам страха и слабоумия. В нем не проявлялось ни малейшего проблеска рассудка. Вместе с тем в спокойном состоянии он занимался бесконечными коммерческими расчетами, ведя бухгалтерскую книгу в образцовом порядке. Я проверял его записи и не обнаружил в них ошибок: все цифры абсолютно верны, все балансовые итоги безупречны».
Супруги Муатесье, принадлежащие к католической вере, воздвигли часовню в честь Милосердной Божьей Матери.
Перевод Е. МурашкинцевойПлита
Напечатано в сборнике: Vignon Claude. Minuit! Récits de la veillée. Paris, 1856. Сюжет о трупе, замурованном в доме и сводящем с ума хозяина-убийцу, заставляет вспомнить новеллу Эдгара По «Черный кот» (1843, французский перевод Ш. Бодлера 1856); мотив умершего ребенка, «воскресающего» в лице рожденного после, напоминает роман Диккенса «Домби и сын» (1848); Клода Виньона вообще сближает с Диккенсом моральная поучительность.
Сходство фамилии героя новеллы — Рувьер — с фамилией мужа писательницы является, очевидно, случайным совпадением: к моменту написания новеллы Морис Рувье был еще подростком.
Перевод, выполненный по вышеуказанному изданию, печатается впервые.
IВечером 20 декабря 183… года в старинном особняке на улице Сен-Луи в квартале Маре гремело праздничное торжество. У дверей выстроилась вереница карет. Булыжная мостовая отсырела из-за мглистой туманной погоды, а потому двор был устлан коврами, навесы же из тиковой ткани доходили до самого крыльца, чтобы бальные туалеты не пострадали от влаги. Все окна были ярко освещены; уже издали слышались звуки вальсов и кадрилей. Лестничные перила и оконные решетки были увиты гирляндами цветов. Лакеи в ливреях открывали дверцы карет и провожали приглашенных в дом.
Гости съезжались на свадьбу графини де Марнеруа, вдовы генерала, с господином Адольфом Рувьером.
Общество было многолюдным. Со стороны супруги явились представители высшей аристократии, военной элиты, а также видные чиновники на правительственной службе и государственные мужи. Со стороны супруга пришли депутаты левого центра — претенденты на все посты, которым завидуют те, кто их не имеет; художники и знаменитости всякого толка, добившиеся известности в парижских кварталах,{402} расположенных между Одеоном, предместьями Монмартр и Пуасоньер, воротами Сен-Дени и церковью Мадлен.
Новобрачная была молода и изящна, от роду ей было не более двадцати шести лет; она отличалась скорее миловидностью, нежели красотой, скорее элегантностью, нежели хорошим сложением, — словом, то была истинная парижанка, получившая от природы не слишком много, но ставшая восхитительной женщиной благодаря светскому воспитанию. Она выглядела очень счастливой и с трудом скрывала радость от только что заключенного нового брака под маской улыбчивой радушной хозяйки дома, принимающей гостей.
Господин Рувьер, обходя гостиные, подходил ко всем группам и со всеми говорил с видом человека, который обрел пристанище, круг общения и социальный статус — к чему стремился, быть может, уже давно. На вид ему было от тридцати до тридцати пяти лет. Он не выделялся ни красотой, ни уродством, что вполне соответствовало светским условностям; у него было умное лицо и безупречные манеры. Полуадвокат, полулитератор, умевший при случае сочинить стихотворение, часто заводивший философские разговоры и всегда блиставший остроумием в беседе, он без труда завоевывал расположение дам — легко было понять, по какой причине мадам де Марнеруа решила отказаться от свободы, дарованной вдовством.
Среди танцующих и на коленях у старух мелькало третье лицо — судя по всему, главный участник торжества, поскольку появление его вызывало всеобщую шумную радость. Это была прелестная девочка лет пяти-шести; она сновала среди гостей, всех обнимая и поздравляя, а сама получала то конфетку, то поцелуй.
Маргарита де Марнеруа прыгала от восторга, что ее взяли на бал, как взрослую барышню, что мама блистает в роскошных туалетах и что у нее появился папа. Это была счастливая натура, которая редко встречается даже у детей. Она ластилась к отчиму, с улыбкой встречая новую жизнь, открывшуюся перед ней в связи с замужеством матери, — как встретила бы любую перемену, ибо само понятие беды было ей неведомо.
У красавицы Маргариты были кудрявые волосы изумительного пепельного оттенка, необыкновенно белая кожа, губы красные, словно зрелая вишня, черные брови и глаза. Контраст между цветом волос и бровей придавал ее детской прелести особый блеск, некую странную выразительность, благодаря чему это задорное личико надолго врезалось в память.
Ее называли Пакрет[121] в ожидании, пока она подрастет — лишь с возрастом крохотная весенняя звездочка могла превратиться в королевский цветок; старики же говорили, что это имя очень ей подходит, поскольку ее ослепительная улыбка и чистый взгляд приносили радость, подобно апрельским цветам.