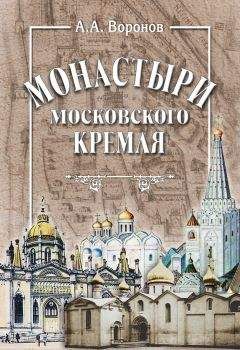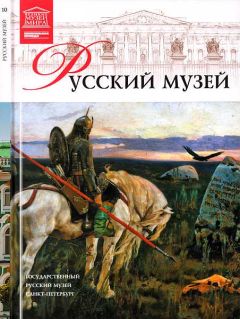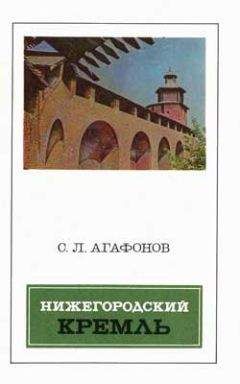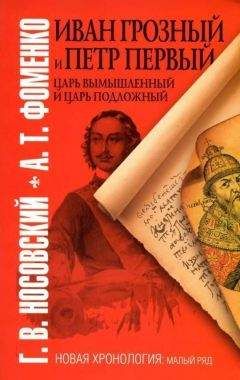Артур Клинов - Минск. Путеводитель по Городу Солнца
48
Город Солнца был городом художников и поэтов. Для создания великолепной декорации счастья страна нуждалась в людях, способных талантливо это сделать. В Городе находилось несколько академий муз, в которых обучали мастерству боговаяния, секретам высокого стиля, умению сочинять песни и марши. Не все, кто из них выходил, занимались сложением гимнов. Кому-то было противно ваять богов, а хотелось стать свободным художником. Кто-то, наоборот, хотел бы слагать, но не мог, как мой отец, найти общий язык с людьми из канцелярии Метафизика или хотя бы с председателями колхозов. Кто-то просто спился, так и не успев ничего создать. Но в любом случае художников и поэтов было в Городе много, гораздо больше, чем приходилось на такое же число пролетариев в любой другой стране. Город Солнца не любил своих гениев. Ему нужны были люди, которые работали бы только на его гениальность. Других он душил, унижал, выкидывал из себя. Спастись гении мог лишь уехав из этого Города. Такова была традиция этой земли. Спасались, реализовывали свою гениальность лишь те, кто уезжал, как Марк Шагал или Хаим Сутин. Кто не сбегал – умирали неизвестными гениями. На бадье с квашеной капустой, как Алексей Жданов, или с похмелья, как Анатолий Сыс. Кого-то, как Михоэлса, просто сбивала на улице машина. Городом загубленных гениев называл его Ким – гуру и учитель многих здешних поэтов. Ким Хадеев, имя которого значило – Коммунистический Интернационал Молодежи, был из тех людей, которые никогда не жили в стране Счастья и не верили в ее плоское изобилие. В пятидесятых годах еще студентом он с университетской трибуны призвал к свержению Метафизика, за что несколько лет провел в психушках страны Счастья. Однако, когда началась оттепель, Ким вернулся в Город, где основал свою академию муз. В академии Кима не велось регулярных занятий по греческой мифологии или философии права, но сотни людей, которые за много лет через нее проходили, получали то, что не мог дать ни один университет Города Солнца. Академия Кима размещалась у него дома, на втором этаже невысокого длинного барака, построенного еще пленными немцами. Небольшая квартирка ютилась в квартале, начинавшемся сразу за одной из помпезных анфилад изобилия, неподалеку от площади Виктории, в послевоенном районе, застроенном одинаковыми двухэтажными желтыми зданиями под высокими крышами. Поднявшись по деревянной лестнице наверх, ты попадал в длинный полутемный коридор, пахнущий котами и всегда заваленный каким-то старым хламом. С двух сторон в него выходило множество дверей. Чем-то он напоминал огромную коммуналку. Сразу за дверями начинались отделенные от коридора микроскопическим тамбуром комнаты жильцов, из которых неслись звуки и запахи здешней жизни. Можно было всегда безошибочно определить, за какой дверью сегодня овощное рагу, а за какой – на ужин жареная рыба. За какой дверью живет многодетная семья, а за какой сегодня, также как и вчера, опять пьют и дерутся. Квартира Кима состояла из комнаты, маленькой кухни и туалета. Комната была заставлена высокими стеллажами с множеством книг, всегда под потолком затянутых паутиной. По центру стоял круглый стол, рядом диван и кресло хозяина, в котором обычно сидел Ким с неизменной заправленной в мундштук сигаретой в пожелтевших прокуренных пальцах. На кухонном полу лежал матрац, на котором тоже всегда кто-то сидел, пил или спал. Когда меня впервые привели к Киму, я волновался. К тому времени я уже много слышал о нем, знал, что это абсолютно необычная личность. Кима, правда, в квартире не оказалось. Расположившись на матраце кимовской кухни, мы открыли бутылку вина и стали его дожидаться. Когда Ким вернулся, я увидел небольшого роста худощавого старика с бородкой, немного напоминавшей бородки с портретов классических бого-героев. Радостно поприветствовав нас, – а Ким всегда искренне радовался появлению новых, незнакомых ему людей, – он достал из авоськи баночку сметаны, и принялся ее есть, черпая ложкой прямо из банки. При этом он взялся обсуждать достоинства и недостатки нового романа какого-то русского писателя, имя которого я никогда раньше не слышал. То, с какой простотой Ким говорил о сложных вещах, прихлебывая из банки сметану, время от времени капавшую ему на одежду, потрясло меня. Хадеев был человеком невероятных знаний. Периодически он подрабатывал тем, что писал за деньги научные диссертации. Сам он, естественно, никаких степеней не имел, но за свою жизнь написал для других двадцать пять кандидатских и пять докторских диссертаций на самые разные темы. Причем первую из них – по психиатрии – он сделал для главврача психбольницы, в которую его упекли за призыв свергнуть Метафизика. Квартира Кима была одним из тех мест, где в лабиринтах, скрывавшихся за фасадами изобилия, начиналась реальная жизнь. Здесь никто не говорил, что кровь это вино. Кровь называли кровью, а вино вином. И, конечно же, крови предпочитали вино, которое всегда рекой лилось в Академии Кима. Рекой, впадавшей в бездонное озеро споров, дискуссий о поэзии и литературе, о театре, искусстве, обществе и философии. Круглые сутки квартира Кима была заполнена людьми, которые шли сюда – кто с новым романом, кто с только что написанными стихами, кто со сценарием, кто с орхидеями, кто просто с идеями и вином. Ким всех принимал, хотя его жизнь становилась похожа на быт в многолюдной коммуне, где вряд ли возможно уединение. Много лет он писал две книги. Одну по философии, которую назвал «Двоичность», и сказку, похожую на притчу о стране Счастья. Многих, кто к нему приходил, Ким называл гениями. Были и те, кто считал его дьяволом, искушающим души юных поэтов. Скорее, он их пробуждал, жалел и старался помочь. Наверное, зная, что рано или поздно этот Город их сожрет. Как в один сентябрьский день сожрал и его самого.
Панорама Города Солнца. Две стеллы
49
Чем больше отдаляешься от проспекта на север или на юг, тем заметней изменение характера декораций. Коридоры изобилия начинают распадаться на осколки. Плоские, но все же цельные декорации фрагментируются. Стены-дворцы постепенно превращаются в дворцы-окна. Здания уже не создают иллюзию дворцов, а лишь символически их обозначают. На фасаде остается только отметка, клеймо, предназначенное сообщить, что перед нами именно Дворец. Таким клеймом может быть несколько богато оправленных окон, лепной портал, или просто пилястры, что помещаются на неоштукатуренной стене, порой в самых неожиданных местах здания.
Желтый Город постепенно превращается в серый, где серым становится даже кирпичный цвет его стен. Появляется ощущение, что автор, создавший это произведение, сделал хорошую проработку центра композиции, но края полотна оставил в виде эскиза, нанеся лишь несколько экспрессивных мазков. Анфилады изобилия угасают, становятся все менее объемными, все более плоскими, не такими помпезными, а, наоборот, скромными и убогими. Вместо великолепных дворцов остаются пустые кирпичные коробки с правильной геометрией черных окон. Но два или три оконных проема, обычно те, что выходят на улицу, сохраняют богатство обрамляющего их декора. Эти странные дворцы-окна категорически заявляют о своем высоком происхождении, требуют к себе пиетета. Но правда уже очевидна. Она не прячется за изнанкой дворца, а смотрит на вас из окна рядом, уже не стесняясь демонстрировать свою наготу прямо на улице. Создается ощущение фантасмагории, гигантской декорации к какому-то странному спектаклю. Реальность подменяется сценографией, а сценография растворяется в реальности. Город дворцов тает на глазах, угасает, мельчает. Чем дальше отдаляетесь вы от центра, тем больше он уходит в серые кирпичные сумерки. Временами можно набрести на небольшой его всплеск: одиноко стоящий дворец-стену, кем-то забытую вазу, скульптуру в парке или длинный лепной забор с кочанами гипсовой капусты. Но реальность неумолима. Город становится все более и более иллюзорным, он исчезает.
Дворец-окно
50
Мы все по-разному покидали страну Счастья. Кто-то никогда в ней не жил, кого-то выселяли насильно, а кто-то сам оставил ее, когда она умирала. Я же покинул ее намного раньше своих сверстников. Я рос в еврейском квартале, а евреи всегда почему-то хотели уехать из Города Солнца. У них были родственники в другом мире, которые в письмах рассказывали об изобилии, совсем не похожем на наше изобилие из гипса. Потом появился отец, потом дядя Ришард, друг матери, который ненавидел страну Счастья. Затем я стал находить другие книги. Потом появилась Вильня. Я полюбил Вильню с первого вздоха. Ее воздух напоминал запах Немиги, любимого города детства, наполненного ароматом каминного дыма. Вильня находилась совсем близко от Города Солнца, всего каких-то сто семьдесят километров пути, три часа на неторопливом утреннем поезде – и ты уже вдыхал аромат первой чашки кофе в Вайве, кавярне неподалеку от костела Святого Яна. Мы выбирались в Вильню без каких-то специальных дел на выходные, чтобы просто прогуляться по ее старым улицам, попить вина в тихих двориках. Не спеша выкурить сигарету в подворотне на Gorkio, наблюдая за неторопливо шествующими мимо прохожими. Сходить к ручью под горой Гедимина, к дикому заросшему месту с дивной энергией и бесчисленным количеством улиток в барочных платьях, медленно поднимавшихся по стволам старых деревьев. Этот город был таким непохожим на наш. В нем жила тишина и спокойствие его вечных стен. Но из этой тишины доносился едва заметный, проникавший в самую глубь тебя, зовущий голос. Это был голос крови, бессонница крови. Бессонницы кровавые берега манили тебя, взывали, хотели тебя пробудить. Немига возвращалась в Вильне, в нашей древней столице. Ее подземные воды несли кровавую правду. Ту правду, которой она устилала свои невидимые подземные берега. Она взывала испить эту чашу похожей на вино красной воды. Испробовав ее горечь, бессонница правды возвращалась, лишала сна, делала тебя несчастным в осознании несправедливости. Горькая вода Немиги в твоей крови требовала, взывала, жаждала торжества справедливости, путь к которой лежал через свободу, обрести которую можно было лишь в братстве.