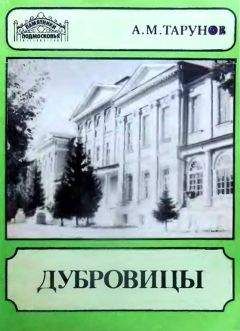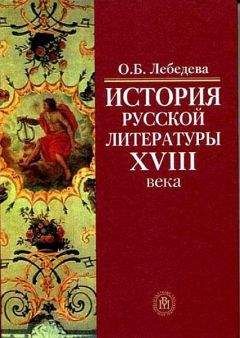Александро-Невская лавра. Архитектурный ансамбль и памятники Некрополей - Кудрявцев Александр Валентинович
Убедительность и глубина образа, созданного Земельгаком, допускают возможность того, что скульптор знал портретируемого и, может быть, работал с натуры. Памятник мог быть заказан самим Яковлевым, таких случаев на примере надгробий некрополя можно привести немало, начиная с надгробия Ржевского.
Уверенна и точна лепка, тонка и изящна моделировка портрета, выполненного низким рельефом и великолепно отлитого в бронзе. Красиво сочетание темного, тускло мерцающего металла и белого мрамора круглого медальона, на который наложен рельеф.
Земельгак был автором не только портрета, но и мраморных рельефов на торцовых стенках огромного прямоугольного саркофага, декорированного гирляндами. Барельефы, изображающие Благочестие у здания Успенской церкви на Сенной площади, выстроенной на средства Яковлева, и Гения на фоне торговой пристани с гостиным двором и парусными судами повествуют о деятельности покойного, причем на втором плане переданы конкретные черты петербургского пейзажа XVIII века.
В начале 1780-х годов в мемориальном искусстве начинают работать первые русские скульпторы, бывшие воспитанники, а теперь первые профессора петербургской Академии художеств — Ф. Г. Гордеев и И. П. Мартос. С творчеством этих выдающихся мастеров связано создание русского скульптурного надгробия, его национального художественного образа, пронизанного гуманизмом, присущим передовой русской культуре XVIII века, утверждавшей ценность человеческой личности и возвышавшей ее.
Гордеев был старше Мартоса и начал раньше. Ко времени создания своего первого памятника он уже почти десять лет работал на родине (после пенсионерства в Италии и Франции), и его знания, талант и мастерство получили признание современников. К надгробной скульптуре он обратился в 1780 году, исполнив для московского Донского монастыря прекрасный памятник Н. М. Голицыной[41]. Произведение получило широкую известность, а образ плакальщицы, склоненной над урной, один из самых пленительных в мемориальной скульптуре, породил бесчисленные подражания.
63. Неизвестный мастер. Надгробие С. Ф. Апраксина. Конец XVIII в. Фрагмент (?)
По заказу Голицыных в 1788 году в Петербурге, в Благовещенской усыпальнице, Гордеев ставит свой второй, самый грандиозный памятник — надгробие генерал-фельдмаршалу А. М. Голицыну, полководцу и сыну полководца петровской эпохи. Современники высоко оценили это произведение, всегда особенно выделяя его среди работ знаменитого ваятеля[42].
Памятник Голицыну — первая крупная многофигурная композиция в русском мемориальном искусстве, первое произведение, где с большой художественной силой решена сложная задача создания нового типа скульптурного надгробия. В отличие от московского памятника Голицыной — камерного, поэтично печального, надгробие полководцу (к которому восторженно обращались: «Голицын! Твой услыша звук, Марс опустил свой меч из рук, Издревле кровью обагренных!»)[43] должно было выразить иные чувства, нежели простая человеческая скорбь и любовь, требовало иного образного и эмоционального строя.
Общественная мысль второй половины XVIII века наставляла художников служить воспитанию гражданственных идеалов, их прославлению, или, как призывал А. П. Сумароков,— «учить подражанию великих дел», ибо главная задача художника «есть изображение истории своего отечества и лиц великих в оном [...] Таковые виды умножают геройский огонь и любовь к отечеству»[44]. Героизированным произведением, своеобразной похвальной одой в скульптуре стал монумент Голицыну. В этом громадном памятнике, поднявшемся на всю четырехметровую высоту обширной ниши в южной стене усыпальницы, отчетливо видны характерные тенденции искусства эпохи раннего классицизма, где еще очень сильны барочные реминисценции.
Тяжеловатая помпезность, декоративная изобильность пластики сдерживаются классической пирамидальной композицией, спокойной и уравновешенной. Обязательный аллегоризм в раскрытии содержания, назидающего о славе и добродетели, античные одеяния и доспехи сочетаются с реальными атрибутами времени — трофеями и российскими орденами и, главное, с жизненной достоверностью образов.
Композиция строится вокруг жертвенного алтаря и высокого обелиска на широком двухступенчатом основании. Плоский обелиск и прислоненный к нему более объемный жертвенник связывают со стеной и между собой все скульптурные части композиции, развернутой на фоне этой стены, и эффектно контрастируют насыщенным черным цветом с беломраморными изваяниями. Венчающий композицию барельефный портрет правдив; в нем нет и намека на идеализацию старого, обрюзгшего лица фельдмаршала с такой характерной в портретах XVIII века полуулыбкой — учтиво снисходительной, порой едва уловимой, но непременной, придающей образу своеобразную психологическую окраску и остроту. Парик с буклями, мундир, орденские ленты органичны в этом портрете воина и дипломата екатерининских времен. Лепка обобщенная, хотя и точная в передаче различных материальных фактур, однако без излишней нюансировки, что полностью соответствует монументальному характеру памятника.
64. И. П. Мартос. Надгробие Н. И. Панина. Между 1783 и 1790 гг.
Только на первый, поверхностный взгляд портрет может показаться неожиданным, противоречащим своей правдивостью апофеозному характеру памятника, его аллегоричности. В надгробиях последней четверти XVIII века вполне достоверный портрет, со всеми внешними приметами времени — костюмом, прической — встречается не так уже редко и мирно соседствует с антикизированными плакальщицами, музами и крылатыми гениями. Трактовка портрета Голицына не вносит дисгармонию в общий строй памятника, в котором органичны и виртуозно исполненный символ воинской доблести — львиная шкура Геракла, и жанровый рельеф на щите Гения — русский солдат таскает за волосы турка у крепостных стен Хотина. Следование натуре, жизненная достоверность, как уже говорилось выше, в большей или меньшей мере присущи всем скульптурным компонентам надгробия, в том числе изображению Гения войны и Добродетели. Эти наиболее отвлеченные образы произведения выражают его основное содержание и определяют эмоциональное звучание. Величавая грация женской фигуры, струящиеся складки одежд, самая поза — несомненная дань античности, преклонения перед нею. Вместе с тем аллегорическое изображение Добродетели — не просто копия или слепое, старательное подражание. Облаченное в хитон человеческое тело и венчающая его вовсе не идеальная античная голова не укладываются в строгие рамки классических канонов. В литературе о Гордееве уже давно обратили внимание на характерное своеобразие этой головы, считая ее не только портретной, но и утверждая, что Добродетель (так же, как и Гений) «изображения современников, наряженных по-античному»[45]. Существует, правда, и диаметрально противоположное мнение, отрицающее полностью (и достаточно непоследовательно) какую бы то ни было индивидуализацию[46]. О портретности говорить, разумеется, трудно, но выразительный рот с чувственной, выпяченной нижней губой, форма носа, разрез глаз, высокая полная шея и двойной подбородок все же не являются абстрактной фантазией художника. Добродетель, если не портретна, то создана на основе непосредственного наблюдения и работы с натурой. Эти индивидуализированные черты оживляют отвлеченный образ, делают его человечным, земным. Теми же особенностями отмечен и сдержанно-печальный Гений войны с крепкой обнаженной фигурой, тяжелыми, непропорционально большими кистями рук. Он олицетворяет скорбь воина по ушедшему полководцу.
Восприятие и оценка любого произведения искусства, тем более такого значительного, как Голицынский монумент, невозможны в отрыве от времени, общего развития, состояния и особенностей культуры. Вот почему уместна ассоциация этого великолепного мрамора с русской литературой, одической поэзией и, прежде всего, с поэзией великого современника Гордеева — Г. Р. Державина[47]. Ассоциация эта тем более нужна, что показывает, дает понять закономерность, привычность использования в одном произведении элементов, казалось бы, нарушающих его единство. Нагой крылатый гений в греческом шлеме, гренадер в екатерининском мундире, дающий таску плененному турку, львиная маска с высунутым языком, изящная величавость жеста Добродетели, портрет старого полководца в парике — их сочетание также характерно и своеобычно, как и переплетение высокого и низкого, патетики и «забавного русского слова» в державинских одах тех лет. Все это не разрушает художественного единства, а лишь обогащает произведение[48].