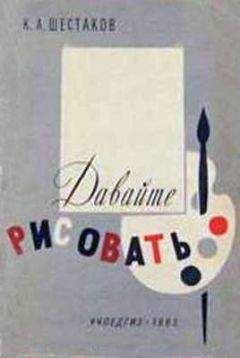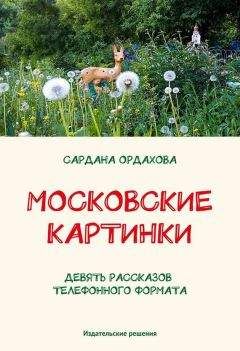Андрей Балдин - Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю
Тем же настроением согрет «страшный» праздник Haloween.
Москва собиралась у лампы во всякие трудные времена и оттого делалась вдвое тепла, цветна и пестра.
«Цветник» — так назывался один из рукописных сборников, во множестве ходивших по Москве на рубеже XVII — XVIII веков. Сборники в большинстве своем были оппозиционны царю Петру. Известны также «Жемчюг», «Огородная книга» отца Евлогия (фигура вымышленная) и многие еще анонимные протестные опусы: все они были разноцветны. Так Москва составляла контры Петру — черно-белой, вертикально отчеркнутой человекомачте.
Затем эти контры без труда были перенесены на Петербург. Северная столица стала царствием строгой формы, лабораторией черченого света — Москва в ответ сделалась демонстративно «бесформенна» и цветна.
Царь Петр, согласно московскому пониманию, вовсе не ведал цвета. Это некоторым образом согласуется с известной легендой о замене русского царя немцем. Будто бы настоящего Петра во время первого его заграничного путешествия (1698) заменили — даже не немцем, а куклой, — в Стокгольме. В городе Стекольном. И дальше поехала, и в Россию вернулась неживая (бесцветная, стеклянная) кукла. Сам же Петр Алексеевич по сей день остается в Стокгольме, в ледяном ящике, ни мертвый, ни живой.
*Ноябрь двоится; тонет в темноте, всплывает цветом. Можно печалиться, можно праздновать мрак. Можно веселиться, согреваясь душой в разговоре с Евлампием (вариант: домовым) у свечи, с друзьями на кухне. Так или иначе, Москва катится по дну (года), внепространства. Это опасное приключение; ей требуется ежедневный малый подвиг, чтобы без повреждения достигнуть другого (Рождественского) берега тьмы.
Пешком по «Москводну»
Если Кремль, он же июль, — это наивысший подъем календаря (на Боровицкий гребень, позолоченную верхушку Москвы), если от другого, Покровского подъема и собора катится вниз Васильевский спуск — то что нас ждет внизу спуска, что такое «дно» Москвы? Мы отслеживаем метафизический рельеф Москвы — где конкретно может быть расположено ее (ноябрьское) дно?
*Однажды со мной случилось приключение, которое позже я назвал прогулкой по Москводну. Вспоминал я об этом, смеясь, но в тот момент мне было не до смеху.
Слава богу, это случилось летом, не в ноябре.
Как-то раз (по-моему, дело было в августе), я задержался в гостях у приятеля. Еще и дождь пошел, пришлось ждать его окончания, а он закончился только к трем часам ночи. Транспорт не ходил, денег на такси не было, и я отправился домой пешком (отметим маршрут, это важно) — с Таганки на Профсоюзную (см. схему).
Порядочный крюк; ничего, никто меня не торопил, рано или поздно, хотя бы и к рассвету, я рассчитывал добраться.
По Садовому кольцу, по часовой стрелке я прошел довольно бодро — через Москва-реку, через остров и канал, мимо Павелецкого вокзала — в один присест. Асфальт чернел и искрился, как спина у плывущего кита, сам тек под ногами; идти было весело.
До Серпуховской Заставы, до южного полюса старой Москвы я дотопал припеваючи (в самом деле пел, так, вполголоса, все-таки шел со дня рождения).
Дошел до полюса, до нулевого московского «меридиана».
Москва несомненно помещена на меридиан (свой собственный): по вертикали яйцо города рассечено пополам, с севера на юг. На севере этот «разрез» Москвы начинается с Самотечной и далее идет в центр, через Трубную площадь; на севере самый рельеф города прогнут по меридиану, по течению невидимой Неглинной. На юге он выходит в точке Серпуховской и продолжается идущей на юг Люсиновкой.
На Люсиновку я как раз и свернул и по ней, по оси Москвы отправился прямо на юг, вниз по карте.
И только свернул, как все вокруг переменилось. Те же огни, что весело сияли по Садовому кольцу, один за другим провожая меня и встречая, теперь налились синим больничным цветом и как будто угрожали, предупреждая о чем-то близком и нехорошем. По-прежнему вокруг не было ни души, но теперь это «ни души» звучало как-то совсем по-другому. Уже мне было не до пения; я умолк и старался идти тише.
Юг с точки зрения метафизики — самое неблагополучное из всех московских направлений. На юге у московской «головы» шея. Довольно ненадежная, какая-то качающаяся, хлипкая шея. Этому ощущению есть объяснение в истории. Многие страхи столицы скопились на юге (ассоциируются у человека Москвы с югом). Первый, очевидный, — страх степи, перманентной южной угрозы. Второй — скрытый, «детский», его определить сложнее: страх ввиду расположенного там же, на юге, второго Рима, материнского лона, из которого некогда вышла (от которого была отторгнута) Русь. Там прошлое, небытие. Будущее для Москвы на севере и северо-востоке — туда направлен вектор ее миссии. Север ободряет Москву, юг страшит. Отсюда это ощущение хрупкой южной шеи, на которой качается московская «голова».
К слову сказать, этих метафизических материй я тогда не ведал, и потому никакими «южными» мыслями напугать себя не мог; я только испытывал простой, ничем не объяснимый страх, с каждым шагом все возрастающий.
Показалась Даниловская площадь; левая ее половина тонула в темноте — там таился монастырь и узкие пустынные переулки Щипка и Зацепы. Справа света было чуть больше; посреди бледного пятна отворялась черная пасть Серпуховского бульвара — в нее мне нужно было свернуть, чтобы далее выбираться вверх, мимо Донского монастыря к Ленинскому проспекту. (В ту минуту далекий проспект почудился мне спасительным золотым мостом, ведущим прямо к дому; что же я, дурак, не дошел до него поверху, по Садовому кольцу? неизвестно; плыви теперь черными чернилами понизу, по темному бульвару, по улице, которую словно в насмешку называют «Валом».) Куды, какой Вал? Низкая ровная плоскость, словно по колено залитая какой-то придонной темнотой.
Я приблизился к входу в бульвар и похолодел от ужаса. Под липами, ровно отрезанными понизу, стлался и плыл туман; он был одушевлен, населен тенями, которые я готов был различить. Я и теперь его помню: туман двигался осмысленно и последовательно (куда-то влево, на юг). Не то что пройти по бульвару — шагнуть в аллею было страшно. Я перебежал аллею поперек: земля под ногами пружинила, как дно у резиновой лодки. На другом берегу, на тротуаре, где высокий желтый дом и магазины, в тот мертвый час, разумеется, закрытые, я остановился и перевел дух. Потрогал стену дома и вдоль этой стены поплелся далее, стараясь не смотреть на плывущие по правую руку мрачные, водящие листвой, как руками, липы.
Впереди был перекресток (Шаболовка), где трамвайные рельсы сходились и расходились. Почему-то этот перекресток страшил меня больше всего. Вместо дома под левой рукой (от твердой преграды я никак не мог оторваться) потянулась глухая стена автобазы. Ни одного фонаря не светило над головой, еще и тротуар куда-то пропал, растворился в чернилах.
Под ногами опять пружинила прорва. Тут, не иначе, для того чтобы окончательно меня доконать, в голову полезли мысли о Гоголе. Он же был похоронен на Даниловском! — вспомнил я, — там, за спиной, в двух шагах. По спине пошел мороз. В одну секунду я вспомнил все, что знал о похоронах Гоголя, и к этому еще историю о том, как сто лет спустя его выкапывали: со страшной глубины, из склепа — и будто бы в склепе не было его головы, зато на полдороге к поверхности земли нашелся голый череп, «лицом» вверх. Ощерясь, он выбирался наружу.
Я представил себе череп и прирос к месту, не в силах сделать более ни шагу. Дно ухватило меня за ноги.
Но тут вместо петуха, положенного по сценарию, за углом взревела и выехала на перекресток поливальная машина. Спасительница! думаю, не одного меня она так выручила; за многие годы таких спасенных были сотни, если не тысячи. Свет фар прогнал окруживших меня призраков; оторвав ноги от топкой почвы, я выбрался на тротуар, на берег Шаболовки. Сверху лилась улица Орджоникидзе. Чуть не на четвереньках по ней я отправился вверх. Теперь с каждым шагом мне становилось легче. Донские бани, университет Патриса Лумумбы — я опять был весел: бесы остались за спиной. Мне вправду было смешно; притом, что слева из окон университета на меня взглядывали воображаемые черные лица с белыми лопатами-зубами: мавры, зулусы, пигмеи — они смеялись, и я смеялся вместе с ними. А справа тянулся забор, и за ним крематорий, где в фарфоровых чашах покоился прах сотен и сотен москвичей, — они меня не пугали. Смеясь, между маврами и покойниками я выбрался наверх, на высоту Донского, где был спасен окончательно.
Но я никогда не забуду той хватки «Москводна», того странного ощущения, когда ходит под ногами тонкая московская почва, под которой неизвестно что, или вовсе ничто.