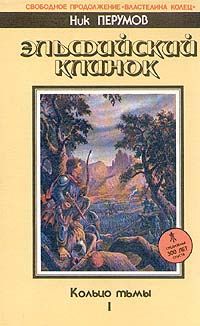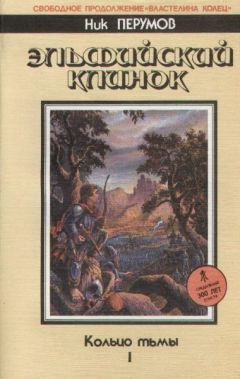Дмитрий Щербинин - Последняя поэма
— Отпустите, пусть живет она — такова воля провидения…
И мать поняла, что дочь ее может быть вынесена из под пламени, что будет еще жить, однако она уже настолько смирилась со смертью, со скором пробуждением в Валиноре, что не хотела ее отпускать — и дело было даже не в разлуке (хотя, конечно, и расставанье было болью); но в понимание того, сколько зла в этом мире, сколь искажен он еще в дни творения; ей мучительно больно было осознание того, что любимой ее доченьке придется и плакать, и страдать, и потому она не хотела ее отпускать: «Отпусти… отпусти…» — в едином порыве шептал ветер: «Ты не в праве распоряжаться ее судьбою. Пусть познает она и горести, однако — через эти горести познает и любовь истинную…»
— Прости, прости доченька! Помни обо мне, и знай, что и о тебе в каждое мгновенье Там буду помнить, любить. Ну прощай, прощай, милая, до встречи!
И она выпустила девочку, которую давно уже держали вороны, и, заливаясь слезами, крепко-крепко обнялась с супругом — это действительно были их последние мгновенья. Как раз в это время ударила та ослепительная стена, которая прожгла до дна реку, и от которой взметнулся, стремительно разлетаясь во все стороны, бордовый плотный пар. И этот пар был настолько раскаленных, что не только мгновенно обращал в пепел всех, кто в него попадал, но и выжигал слой земли метра два — ведь это был пар от драконьего пламени, от которого и мифрил плавился. И в это же время, словно исполинский молот, по уже раскаленной наковальне, обрушился основной поток драконьего пламени…
* * *Скажу, что в десятках верст слышен был грохот, и земля содрогнулась; содрогнулись и Серые горы, и с седых, холодный, погруженных в угрюмые вековечные думы вершин сошли многочисленные лавины. И уже знали об этом неожиданном, коварном нападении в Серых гаванях, за сотни верст к северу-востоку, и сам государь Гил-Гэлад взошел тогда на высокую смотровую башню, и узрел (за сотни верст узрел!) поднявшееся от того падения зарево. Оно багровой полосой раскинулось по горизонту, и до самого утра не желало усмирятся — Гил-Гэладу и страшно, и больно было на него смотреть, он чувствовал, сколькие погибли там, сколькое было разрушено; слезы катились по его лицу, и он едва слышно шептал:
— Дориат, потом Гондолин, теперь — Эрегион; придет время и Нуменора, и Серых гаваней. Пусть сейчас кажется, что — это будет нескоро, через тысячелетия, но, когда минуют эти тысячелетия, и падет и эта башня, и все эти стены, и волны усмирят раскаленные руины, то будет казаться, что прошло лишь одно мгновенье… Все уходит, все забывается. Какой же печалью наполнено все наше бытие — сколько мук, надежд и разочарований, но все уходит, уходит… уходит…
И, хотя не было еще точных вестей о гибели Эрегиона, и, быть может, он не погиб в ту ночь, государь Гил-Гэлад чувствовал, что дни этой прекрасной земли сочтены, и тогда рожден им был такой плач:
— Где ты, прекрасная земля?
Твои сады, твои луга,
И золотистые поля?..
Ушло, ушло то навсегда!
Где вы, святые родники,
И реки светлой глубины —
За стоном этой вот тоски,
Я знаю — тьмою сожжены!..
Ах, может где-то я найду,
Иные реки и сады,
И на холмы в цветах взойду,
Увижу свет святой звезды…
Но где же милый твой народ?
Где песни первые весны?
И духа сладостный полет?..
Ах, тьмою, тьмою сожжены!
Конечно, вороны могли бы вырвать девочку силой (тем более, чувствовали, как безвозвратно уходят роковые мгновенья), но теперь уже всякая мысль о насилии казалась им отвратительной; и они ждали, когда матушка ее решится, и отпустит по собственной воле. Если бы она не решилась, тогда бы они и до самого конца не стали вырывать ее, хотя это было им очень больно — они чувствовали жизнь эту хрупкую, прекрасную; чувствовали жалость и любовь к ней потому, что она была так не похожа, на весь тот кошмар, который их окружал. Но вот матушка отпустила, и тогда сразу же, и из всех сил понесли ее прочь. Да — они летели очень стремительно, быстрее стрел, но, все-таки, не успели бы ускользнуть из-под того раскаленного колпака, который падал на них сверху. И тогда они, взмыли вверх навстречу этому сиянию, они понимали, что то колдовство, которое оберегало от смертного жара их, не могло уберечь девочку; и она уже закрыла здоровой ручкой личико, и тихо заплакала, вжавшись в черные перья одного из них. Подобно черным вихрям, ворвались они в узкий провал, между ослепительных стен — он жадно, словно пасть сомкнулся, но они успели метнуться в другой провал, и, наконец, оставили это под собою. Теперь верстах в двух над их головами рокочущими, темно-бордовыми, подчас угольно черными сводами растекалась тьма, и там, время от времени, проносились драконы. Вот несколько их, слитых в единое воплей оглушили просторы воздуха, и одновременно, все засияло таким ослепительным мертвенно-белым, никак не утихающим светом, что они некоторое время летели почти вслепую. Они поднимались все выше и выше, однако, волны жара, поднимающиеся с пылающей земли, захлестывали их, и девочка кричала, звала маму, просила «водицы холодной»…
Летящие быстрее стрел, они все-таки, вырвались из этого ослепительного сияния, и некоторое время летели к северу-западу, так промчавшись десятка три верст, они оказались неподалеку от стен Эрегиона, и почувствовали, что дальше им лететь нельзя, что эти стены хоть как-то сдерживают зло, но, как только они вылетят — зло схватит их, свершит что-то страшное над этой девочкой. И вот опустились они вниз.
Как только ударились эти десять воронов о землю, так и приняли свои прежние, человеческие обличии, даже и одежда на них была прежняя — все темных тонов. Им суждено было оказаться на небольшой, вытянутой к северу полянке. Пышные травы, выгибались плавными склонами, в объятиях которых журчал уже тревожно, уже чувствуя беду ручеек. Завеса багровых туч была еще далеко, на небе сияли звезды, но так же билась там и беспрерывная зарница от драконьего падения, иногда вздрагивала земля, а в глубинах подступающего, пышно нависающего леса тревожно переговаривались какие-то птахи. Но кроны шептали спокойно, смиренно, и вообще, после всего того судорожного, мелькающего хаоса это место казалось настоящим раем; и хотелось вдыхать спокойствие, и стоять не шевелясь, ни единого звука не издавая, вдыхать это спокойствие.
— Водицы… водицы холодненькой… — зашептала потемневшими губами девочка.
И только тут братья заметили, что у нее и все личико, и вся одежда потемнели, и даже волосы стали какими-то блеклыми призрачными; им даже показалось, что она обуглилась, и они содрогнулись, поняли, что не выдержат этого очередного разрушения прекрасного — у всех них даже головы затрещали от огромного напряжения, кровь носом пошла. Огромного усилия стоило им склонится над нею, все еще шепотом водицу просящую. Вот они подхватили ее раскаленное, словно только что из печи вытащенное тело, и поднесли к ручью, опустили в эти воды. Сначала она громко вскрикнула, сильно дернулась, но потом успокоилась, и некоторое время пролежала без всякого движенья. Затем, опустилась на дно, и ручейка хватило как раз, чтобы укрыть ее тельце. Она долго не всплывала, но никто из склоненных над водой братьев и не пытался ее поднять. Все они сидели напряженные, застывшие, словно статуи и ждали. Она взмыла от дна, вырвалась, расплескав веера брызг, и вырвалась со смехом, и тут же стала бить ручками по воде, взметать все новые и новые, блаженно прохладные веера, словно живительным дождем орошать ими эти напряженные лица… И вот и напряжение и боль были унесены вместе с этими каплями. Ведь им все это время так хотелось освободится от всякой темной накипи, забыть обо всем страшном — совсем забыть, никогда не вспоминать; испытывать легкое, светлое чувство, подобное тому, которое испытывали они в детстве. И вот они услышали этот светлый, счастливый детский смех, и увидели, что их мрачное предположение на этот раз оказалось неверным, что все то темное, что покрывало ее, и что они приняли за обугленную, изувеченную плоть, оказалось лишь пепельным налетом, который был теперь смыт ручейком, и открылось сияющие личико ее, и волосы ее пышные, отливающие золотистым светом и в этой ночи. И они глядели на нее, слышали подобно роднику звенящий голосок, и все старались не оглядываться по сторонам, ничего-ничего не вспоминать, и только этот детский, святой голосок слушать. Ну, а девочка благодарила их за то, что они ее спасли, и спрашивала, где матушка ее и батюшка, так как не сомневалась, что и они были спасены (да как же, право, могло быть иначе?!). Однако, никто из братьев не решался ей что-либо ответить, но все только смотрели на нее с преданной, огромной любовью. И вот за их спинами раздался некий возглас, а затем все смолкло — они не хотели оборачиваться, старались обмануть себя, что, мол это померещилось, что никакого возгласа из того страшного мира не было. Перед ними была Святая, и любили они ее, как святую — верили, что она способна привести их к иной, счастливой жизни (а на что, право, им еще было надеяться?!). И вот, действительно, раз прозвучав, возглас этот уже больше не повторялся, и только земля время от времени продолжала вздрагивать, да отсветы перекатывались через небо… Так прошло с четверть часа, и тогда возглас этот повторился — теперь уж совсем рядом, прямо над их головами — все они резко обернулись и… увидели Маэглина.