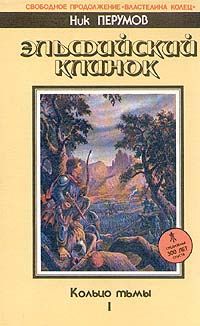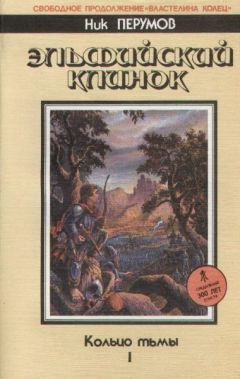Дмитрий Щербинин - Последняя поэма
Да — еще совсем недавно они шепотом обсуждали, откуда мог взяться столь могучий чародей, и как его могли заключить в темницу, тогда как он весь дворец чуть не обратил в обитель мрака. Итак, они пришли к выводу, что темница не сможет задержать такого могучего колдуна, и он, ежели только захочет, и не станет выходить через ворота. Теперь произносить какие-либо слова, а тем более упоминать колдуна, казалось совершенно немыслимым. Какими же громкими казались собственные шаги! Нет — эти шаги были тише, чем шорох мышиных лапок в сотне метров, под стенами, но, все-таки, в этой мертвенной тиши они казались громкими. И эти эльфы чуткие уши которых были напряжены до предела, слышали не только мышиные лапки, но и тихий говор бесчисленных трав, и даже дыхание спящих птиц в кронах падубов, что вздымались над трактом ведущему к Казаду. Вон и сам этот тракт, и падубы, все окутанные плавными и недвижимыми, ласкающими облачками лунного дыхания, и как же все мирно, недвижимо… Но откуда же взялось это напряжение? От тревожной вести, которая пришла из дворца — нет — эльфы чувствовали, что дело здесь в чем-то ином… Напряжение не проходило, но только возрастало с каждым шагом — близилась беда.
Наконец, один эльф не выдержал, и резко остановился, положил руку на сигнальный рог. И он прошептал, и сам испугался своего шепота, который прозвучал словно раскаты грома:
— …Нет — не могу я так дальше… Ох, знаешь, друг Иллэнь — чувствую, что сейчас вот все закончится — жизнь моя то есть. Страшно то как, и верить то этому не могу — не могу, не могу… Но такое сильное чувствие! Страшно то как, уходит, значит, придется. Вот что, друг Иллэнь, ты супруге моей такие строки передай. Я их сегодня придумал, да уж видно не придется самому сказать.
И он шепотом, и очень быстро, опасаясь, что не успеет, что эта, вдруг с такой силой почувствованная им смерть, заберет его прежде, чем он выскажет — произнес такие строки:
— Во мне еще живут воспоминанья,
О прожитых, священных днях,
И давних весен воздыханья,
И страсти в пламенных стихах.
Ах, что-то выразить сумел,
А что-то смерть возьмет,
Да не о том, ведь, сожалел:
Ведь кто-то в этот миг уйдет.
Ах ты, читая эти строки,
Пойми — еще одна душа ушла,
И меж смертями кратки сроки,
И чья-то жизнь вновь отцвела.
Ты помнишь чудные мгновенья,
Они твои — храни всегда,
Ах, той весны далекой вдохновенья,
Умрут — останется звезда.
Да, будет всё сиять на небе,
В далекой, чистой вышине,
И облака в своем извечном беге,
Вздохнут, быть может, обо мне…
— Нет, ты подожди, подожди! — остановил тут его второй эльф.
Он произнес эти слова довольно громко, и тут же побледнел сильнее прежнего — казалось, оглушив эту тишину своим голосом, он совершил какое-то страшное святотатство, и теперь уж они непременно должны были погибнуть от злого рока. Но, все-таки, он нашел в себе силы, и продолжал напряженным голосом.
— …Я то еще слишком молод, и не было у меня еще возлюбленной, кроме… этой вот Луны. Да — не нашел я еще девы, своему сердцу близкой, и вот этому лику печальному свои чувства посвящал. И вот теперь я почувствовал, что смерть меня заберет. Вот сейчас, совсем скоро. Что же мне делать? Ведь я же молодой еще совсем, ведь я же жить должен… И еще столько, столько этих стихов сложить должен!.. И как же я твои стихи донесу, когда сам вот сейчас погибну! А кто же мои стихи до Луны донесет?.. Хотя что я говорю: вон же она, печальная, смотрит на нас, все слышит! Ах, Луна, Луна, что же ты, любимая моя, не поможешь мне?! Страшно мне умирать! Ну, пожалуйста, миленькая, помоги мне! Пожалуйста! Пожалуйста!..
— …Ах, я не знал еще любви к прекрасным девам,
Я молод, и одну Луну любил…
Но он даже и не успел договорить одного куплета, так как Луна, на которую он с такой любовью взирал, вдруг стала изменять свои очертания. То, что прежде было неизменным, что веками сияло мертвенной печалью, теперь задвигалось. Вот прежде маленький, неприметный против огромных очей рот ее, растянулся в улыбку, сами же очи несколько сузились, наполнились непроницаемой чернотою, и глядели теперь не в сторону, но прямо на идущих по стене. Однако, и теперь движение этого ожившего, страшного лика не прекращалось. Вот раскрылся рот, и оттуда выпорхнуло некое темное облако — вдруг плавно и стремительно надвинулось, пронеслось прямо над их головами, и оказалось, что — это большая стая летучих мышей. Пронеслись, они в совершенной тишине, и вот уже вновь взирает на них этот новый усмехающийся лик…
Эльфы не шевелились, стояли в совершенном оцепенении. Но вот улыбающийся лик стал надвигаться, заполонять все своим сиянием — этот свет становился невыносимым, слепящим для глаз, в нем уже померкли все звезды. Этот свет несся холодными, пронизывающими тело волнами; вообще в безмолвном этом, беспрерывно нарастающем сиянии была тяжесть, она давила, хотела повалить на колени, и, в то же время, не давала обернуться.
А стояла полная тишина- теперь даже и мышка не бежала среди трав, теперь и птицы не дышали в своих гнездах в кронах падубов. Вся долина ослепительно и мертвенно сияла; казалось, сейчас вспыхнет в этом непереносимом сиянии. Этот новый, вовсе не лунный лик занимал уже полнеба и все рос, рос, казалось, вот сейчас рухнет, и раздавит, сотрет в порошок и Эрегион и поднимающиеся ослепительной грядой Серые горы.
— Тревогу… Тревогу поднимать надо… — слабым голосом, через силу, выдавил из себя тот эльф, который был старшим.
И он потянулся к рогу, уже и перехватил его, поднес к губам — в это время улыбающийся мертвенный лик преобразился в лик его супруги, которую он уже и не думал увидеть. Сходство было совершенным, только она была мертвой — вот уж действительно страшно увидеть любимую свою вторую половинку мертвой, и причем сразу почувствовать, что да вот — она действительно мертвая. И этот эльф тихо, сдавленно вскрикнул, и все закружилось перед его глазами, он выронил рог, и его падение прозвучало, словно обвал в горах. Он забыл, где находится; время перестало что-либо для него значить — и ему уж казалось, что стоит он над гробом, склоняется над этим мертвым, но еще хранящим милые черты ликом, вот протягивает к ней руки…
А второй, совсем еще молодой эльф видел, будто недавно такой грозный, жуткий лик преобразился, принял черты милой ему, печальной, задумчивой Луны. Только вот очи огромные и печальные Луны, были совсем близко. Вот только одно око осталось видно: оно весь небосклон занимало, и это было огромное, серебристо-темное, загадочное море печали. И, хотя оставалась некая дрожь, хотелось, чтобы поскорее оно нахлынуло, вобрало в свои загадочные, безмолвные глубины. И молодой эльф тоже протягивал вверх руки, тоже забыл и кто он, и где находится…
Но вот раздался чистый и тревожный звук — он сразу отбросил охватившее часовых оцепененье, и они смогли оглядеться трезвыми взглядами. Звук — был тревожным раскатом сигнальной трубы слетевшим от сторожевой башни, до которой было еще полверсты. Этот звук немного притих, а потом вновь стал возрастать, полнить воздух, отбрасывать прочь эту мертвенную, жуткую тишину. Теперь они, как на маяк смотрели на эту башню, и уже знали, что сейчас вот бросятся к ней, и будут бежать из всех сил, пока не укроются за сияющими ее стенами. Полверсты их разделяло. Полверсты окутанных в серебристую ауру. Да — по прежнему сияла над головами полная Луна, но это уже не был слепящий свет разросшегося во все небо лика — Луна приняла свои прежние размеры, и смотрела печальными очами, в сторону от земли, в бесконечные глубины космоса, погруженная в вековечные свои грезы, безразличная ко всему тому, что происходило там, далеко внизу, среди долин, среди гор и морей…
— Враг здесь… — прошептал младший эльф, и так было велико предчувствие, что сейчас вот его молодая жизнь оборвется, и так многое-многое прекрасное, так и останется им неизведанным — что он заплакал, и через силу выдавливал еще из себя. — …Мы должны подтвердить тревогу… Ох, пожалуйста, пожалуйста, милая Луна — ну отверни, отверни от меня смерть…Пожалуйста, я так жить хочу… И я клянусь, что только тебе всю жизнь сонеты буду посвящать…
Луна никак не ответила на его страстную мольбу, но не мне судить — слышала она или же нет эти слова, а если слышала, то как приняла. Но младший эльф так и остался на месте, все с мольбою страстной созерцал лунный лик; старший же стал наклонятся за павшим рогом. Тут какое-то стремительное, резкое движенье захватило его внимание, он повернул голову, и вдруг обнаружил… нет он даже и не поверил своим глазам, думал, что сейчас вот он проснется, и помянет об этом видении, только как об дурном сне. А дело в том, что в нескольких шагах от него возвышалось над стеною нечто жуткое — это была темная, клубящаяся, и в тоже время плотная стена — она совершенно бесшумно, под прикрытием ослепительного сияния разросшейся луны подползла к ним с юга-востока и теперь зияла, наползала их своих глубин угрюмым смерть пророчащим грохотом, а также — бордовыми отсветами и яркими слепящими, и тусклыми, почти совсем незримыми. И странно было смотреть на эту клубящуюся стену, и понимать, что — это смерть, и в то же время пребывать в совершенном безмолвии, и в спокойном, ровном свете полной Луны.