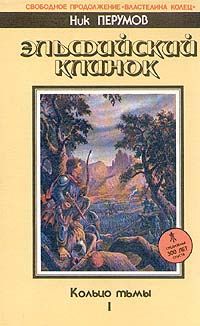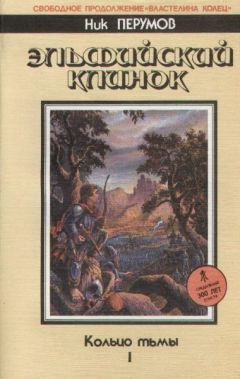Дмитрий Щербинин - Ворон
— Ну вот, нам и железа хорошего оставили. Кузнец его перекует — плуги сделает — да много чего хорошего сделать можно…
Посидел он еще, посидел — после орочьего зловония свежим воздухом подышал; а потом домой к жене, и к детям пошел.
Рассказал он, как все было, стали его славить, а он говорит:
— Да зачем мне эта слава? Я, просто Рэви — каким все время был, таким и остался. Раньше жил просто и счастливо — так и дальше жить буду…
Так оно и было — жил он долго и счастливо. И жена, и дети его, и жители той страны тоже жили счастливо, ибо ни орки, ни какие-либо иные темные созданья и близко к ее границам не подходили. Далеко разнеслась весть об стране, дети которой перетаскивают скалы, а под землею спят великаны…»
* * *За время, пока крестьянин рассказывал эту историю, исчезли из глаз детей слезы; теперь девочки улыбались, и шептали что-то своим куклам; а мальчики, вслушиваясь в каждое слово, часто улыбались, а иногда кричали:
— Так им, так им! Вот молодец, Рэви! Да — это он здорово придумал!
— Ну вот. — говорил крестьянин, сыгравши на скрипке еще несколько веселых мелодий. — Лучше бы и этот ваш, э-э… Вадин придумал, что-нибудь этакое — вместо того, чтобы слезы лить! Остановил бы орков — сам бы жив остался, да и возлюбленную свою спас…
На это Тьеро, который тоже несколько раз улыбнулся, слушая о приключениях Рэви, молвил:
— Но, они были такими непохожими — ваш Рэви, и мой Вадин. Для одного было естественно придумывать что-нибудь этакое веселое, для другого была сущностью великая и светлая печаль. Рэви любил все, и не любил ничего — он так же любил ивы, как и свою жену, а для Вадина была одна любовь — и весь обратился он чувством к этой деве. Мы не в праве судить ни того, ни другого, ибо каждый остался верен своему чувству до конца, каждый остался свободным до конца, и каждый совершил подвиг…
— Подождите. — молвил тут Альфонсо. — Дайте мне, пожалуйста, скрипку… Пожалуйста, скорее, пока оно еще здесь… — голос его стал отрывистым, в очах полыхало творческое пламя.
Крестьянин протянул ему скрипку, и пробормотал:
— Только уж, пожалуйста, не мрачное…
А горницу уже заполнила пронзительная, дрожью бьющая, слезы вырывающая мелодия. Альфонсо не пел, но говорил — хотя в его голосе было столько чувства, что можно было назвать его и пением:
— Когда восходит над миром заря,
Я иду по холодному полю,
И горит надо мною, творя…
Новый день сердце давит пронзительною болью…
Что мне своды холодного неба?
Песни ветра, журчанье воды?
Что мне вкус испеченного хлеба?
Давит память дней долгих чреды…
Днем здесь тесно…
Лишь в сиянии бездны и ночи,
Только там — только звездам известно,
В коих безднах искать сердцу милые, мертвые очи!
Альфонсо заплакал, выронил скрипку; и, если бы один из крестьянских сынов не успел ее подхватить — она непременно разбилась бы об пол. Он закрыл свое измученное, и впавшее, и вырывающееся лицо руками, и шептал:
— Простите, простите… Вы говорили, что не надо мрачного; а я вот… просто вспомнил, одного очень близкого мне человека… или не человека… Она… ее душа всегда стремилась к звездам, и теперь, должно быть, уже там… Просто, я увидел ее лицо, среди язычков этого пламени…
И он плакал, потом — поднялся; прошел к двери, ведущей к его горнице, и, вдруг, развернулся — очи его так сияли, что крестьянка, даже, зажмурилась. Сдавленным шепотом он вырвал из себя:
— Нет, нет — это еще не все, что я сказать хотел. Нет — подождите, или же я прямо теперь… — и он подошел к мальчику, выхватил у него скрипку, подошел вместе с нею вплотную к пламени, так что языки, вырываясь, обжигали его руки, но Альфонсо не замечал этого:
— Где-то, в рощах осенних, веселье,
Детвора, в смех, кленовым листом,
Правит ветра широкое пенье,
Поглощая его глоток за глотком.
Ну, а мне — лишь тоскливые звуки:
Шорох листьев по мертвой траве,
Ну, а мне — безысходные муки —
Память, память в седой голове.
Не приемлю иного я счастья,
Как с тобой, среди пашен пройтись.
Вой холодного вьюги ненастья —
Не смогу я с тобой разойтись.
Та, что пеплом холодным уж стало —
Сердцу ближе, чем смех детворы.
Но ты звезд в вихре тихом достала,
Я ж тоскую… до смерти холодной поры.
— Да, да. — вздохнула крестьянка. — Вы, знаете ли, опять за живое задели. Ведь, у нас здесь неподалеку жила дева — не людьми рожденная; ибо со звезд она в колыбели упала. Такая была прелестная, всем добро делала; а недавно то случился пожар — и дом ее, и она сама сгорела. Ничего не осталось — был у нее и пес, и конь — тоже сгорели. Вот ваш то конь, между прочим, очень на ее коня похож — быть может, от одних родителей…
— Э-э — да что уж там — заладила. — говорил крестьянин. — Конь, пес — об этом ли сейчас речь… Видишь, у человека тоска какая, а ты — конь…
— Прекратите, прошу вас! — выкрикнул Альфонсо, и, в это время услышал, как на улице за плачем дождя закричал ворон…
Муж и жена переглянулись, после чего хозяин заявил:
— С дальней то дороги, вы, верно устали. Оно и понятно. Надобно бы вам отдохнуть.
— Нет — не надо. — голос у Альфонсо был совсем слабым; неуверенным.
И тут, неожиданно, на всех такая сонливость напала, что, где они были там и заснули.
Альфонсо повалился рядом с пламенем, так что языки его, в любое мгновенье могли выплеснуться, и обвить юношу…
* * *Альфонсо увидел, как по утренним улочкам спящего Арменелоса мчится одинокий всадник. Вот он приблизился, и Альфонсо узнал своего отца. Лицо его было сосредоточенно, словно бы каменной маской покрыто, но в глазах — боль.
На ухо зашептала ему Кэния: «Матушка простила тебя, но отец, к сожалению, никогда не простит… Хотя, быть может, со временем… но не сейчас — это точно. Он, ведь, специально бросил все, затем лишь, чтобы поймать тебя…»
— Нет — я не смогу! Я не выдержу этой встречи! — выкрикнул Альфонсо, и ужасно было его чувствие.
— Как только проснешься, седлай моего Сереба. Не забудь братьев своих…
— А что же делать с Тьеро? Для него, ведь, нет коня… Быть может, выменять на что у крестьян…
— Нет, нет — пускай Тьеро остается.
— Но… того же хотел и ворон!
— Так и что из того?.. Неужто ты думаешь, что ворон он стал бы желать тебе зла…
— Но, ведь — это он тебя…
— Нет, нет. — перебила его Кэния. — Он хотел и мне, и тебе только добра. Но случилось так, что пламень перекинулся на меня.
— Но он хотел, чтобы я…
— Сейчас не время обсуждать. — нежным голосом перебила его Кэния. — Твой отец уже на дороге, через пару часов будет у крестьянского дома. Он, ведь, сердцем чувствует где ты… Проснешься — немедленно седлай Сереба, скачи на восток…
Голос стал удаляться, исчезал и нежный свет — вот леденящий ветер пробрал его до костей; дрожью во всем теле отозвался.
— Кэния, подожди! Зачем мне возвращаться туда? Зачем мне скакать, обманывать — зачем стремиться куда-то там, когда я счастлив здесь, рядом с тобою. Обними меня, поцелуй — и вместе поднимемся мы к звездам… Не покидай — мне холодно, мне больно там…
Откуда то из черного, сыплющего мертвыми листьями ветра, долетел ее, едва слышный голос:
— Всему своя пора настанет — и ты поймешь все, мой милый друг. А теперь — прощай…
— Еще хоть раз увидеть тебя!
Но ему уже никто не отвечал. Только ветер пронзительно выл вокруг; только листья сыпали да сыпали, да лил холодный осенний дождь.
И он шептал, и он пел, и он плакал:
— То ли вечер осенний,
То ли сумерки души моей,
То ли шепот умерших уж пений,
То ли отблеск увядших полей.
То ли сердце, как лист с голой ветки,
Опадает в промерзшую грязь.
Толи, рифмы — все новые сетки,
Сердце скрутят в страдания вязь…
Альфонсо очнулся, вскочил, возле потухшего камина; и, выглянув в окно, обнаружил, что наступило уже утро — серое, ветреное; водные полосы стекали по окну, и от опадающей беспрерывно дождевой массы шагах в двадцати все размывалась; видна была покрытая лужами да ручейками дорога. Почувствовав его пробужденье, зашевелились, заплакали, пока еще тихо, младенцы. Одновременно с тем, с улицы стал нарастать лошадиный топот…
От напряжения, Альфонсо схватился за голову, тут только обнаружил, что держит еще скрипку, метнул испуганный взгляд на крестьян — однако, все они мирно спали.
Тогда он подбежал к колыбели, подхватил ее — согнувшись от тяжести, едва смог донести до двери, а младенцы плакали все сильнее; тянули к нему ручки. Альфонсо пришлось поставить колыбель на пол. Он распахнул дверь на улицу. Топот всадника все приближался.