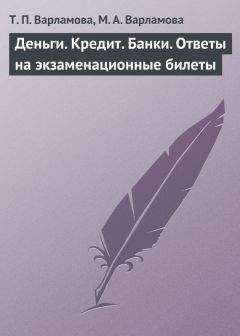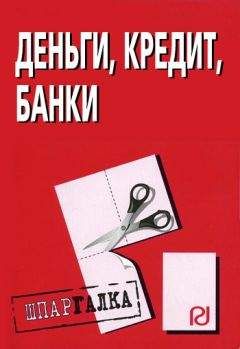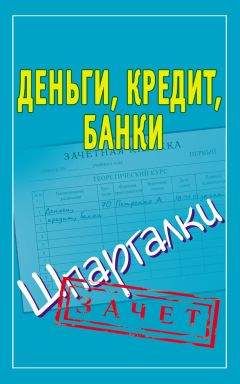Анатолий Барабаш - Метод российского уголовного процесса
В то же время следственная форма процесса имеет ряд преимуществ, по мнению автора, если целью процесса является «удовлетворение требования правды». Они, в частности, в том, что «1) судья. должен действовать против преступления даже тогда, когда против него не будет никакого обвинителя; 2) что во время самого действия он должен принимать все меры, нужные для того, чтобы открыть прямую истину; 3) что он ради истины должен столь же тщательно отыскивать доказательства невиновности обвиняемого, как и доказательства его вины»[110]. Далее автор указывает, что, конечно, следственный процесс может привести к притеснению граждан. Этого же недостатка, по его мнению, не лишен и обвинительный процесс. А преодолеть их можно через систему гарантий. В итоге Я.И. Баршев констатирует, что «основная форма Русского уголовного процесса есть процесс следственный»[111].
В. А. Линовский в своем историко-правовом исследовании в поисках того, что лежит в основе российского уголовного процесса, указывает, что любой уголовный процесс проходит путь от преобладания частных интересов в его организации и построении к торжеству общественных, государственных интересов. От того, на каком этапе находится социум и какие интересы стоят перед ним, зависит уголовный процесс, который представлен двумя формами – обвинительной и следственной. Последняя – форма российского уголовного процесса[112].
Существенное различие двух форм процесса он видит в том, что «в обвинительном обиженный отыскивает свои права посредством государственных установлений, получает удовлетворение под формой публичного наказания; в следственном государство преследует преступление, дабы посредством наказания восстановить нарушенное созвучие в общественном устройстве и чтобы при помощи тех же наказаний отклонить будущие преступления»[113]. И далее два очень важных замечания – «вследствие этого существенного различия оба процесса различаются в своих внешних отношениях» и «каждое из этих двух судопроизводств ведет к особому исследованию признаков преступления. В обвинительном судопроизводстве… судья принимает только те доказательства, которые представляют стороны на основании форм, предписанных законом, в следственном же главная цель есть свободное исследование чиновника и убеждение судьи»[114].
Показательно, как автор проследил смену формы отечественного уголовного процесса. Помимо указания на исторический аспект, а именно – единения русских земель в XV веке, исследователь отмечает внешнее выражение такого единения в деятельности по выявлению и расследованию преступлений. Появились особые его субъекты – губные старосты, должность, учрежденная Иоанном Грозным во второй четверти XVI века. Получив широкий объем полномочий по наиболее тяжким преступлениям того времени, губные старосты стали новым и доселе не имевшим аналогов субъектом. В. А. Линовский делает вывод, что именно с появления губных старост «положено начало прочного существования следственного судопроизводства»[115].
Разведены две формы судопроизводства, возникшие в разных исторических условиях, и у Карла Миттермайера. Свою фундаментальную работу «Уголовное судопроизводство в Англии, Шотландии и Северной Америке» он начинает с указания различий между обвинительным и следственным (сам автор его так не называет, но описание соответствует следственному процессу у цитируемых выше авторов. – А.Б., А.Б.) процессами. «Первый вид, – пишет он, – обусловливается таким судоустройством, при котором отправление правосудия сосредоточивается в руках одного судебного места. Он… представляет обвинительное начало в самом предварительном следствии. Что же касается до главного следствия, происходящего перед лицом суда, то в нем до такой степени господствуют начала устности и обвинения, что председательствующий судья не допрашивает ни обвиняемого, ни свидетелей, и только руководит прениями. Напротив, второй вид основывается на цельном органически связанном судопроизводстве, на совокупном действии множества чиновников и, в особенности, на деятельности государственной адвокатуры, снабженной огромными средствами для открытия преступления, а также на инквизиториальном и тайном предварительном следствии, материалами которого пользуются в главном следствии, происходящем перед лицом суда. Первый вид, наиболее подходящий к порядку римского судопроизводства, представляется в Англии, Шотландии и Северной Америке. Второй принят французским и новейшим германским законодательствами»[116]. Интересно, что в тот период в российской уголовно-процессуальной науке имела место и иная точка зрения, согласно которой состязательное начало английского уголовного процесса скорее миф, чем реальность[117].
Наиболее полное описание вопроса о двух формах уголовного процесса в дореволюционный период мы можем найти у И.Я. Фойницкого, который обобщил все предыдущие наработки по этому вопросу в своем курсе уголовного судопроизводства.
Ученый решает терминологический спор между обозначением процесса как обвинительного или состязательного. Достаточно обоснованно, на наш взгляд, делается выбор в пользу последнего термина[118]. Тут стоит сделать некоторое пояснение. Фойницкий использует в своей работе такие термины, как «публичное начало», «частное начало», «розыск», «состязательность». В ходе анализа текста можно сделать вывод, что начало у процесса автор видит либо частным (когда в процессе движущей силой является частное усмотрение сторон)[119], либо публичным (когда процесс осуществляют органы государства, преследуя государственный интерес)[120]. В свою очередь розыск и состязательность есть обозначения «характера», «порядка» или «формы» уголовного судопроизводства[121]. Розыск при этом – крайняя форма публичного начала, состязательность – форма, соответствующая частному началу.
Автор допускает смешение форм в рамках одного, публичного, начала[122]. Но что именно должно совмещаться и как? Какие элементы одной формы накрепко связаны с публичным началом, а какие – с состязательным? Эти вопросы остаются для автора открытыми, а в силу отсутствия аргументации согласиться с тем, что «принятие состязательного порядка в уголовном процессе не колеблет публичного начала его»[123], мы не можем.
В рассматриваемой работе приводится достаточно специфичный взгляд на состязательный порядок. Основные усилия автора при рассмотрении вопроса о состязательности были направлены на выделение особенностей российской состязательности по сравнению с англо-американской[124]. Классическая же состязательная форма характеризуется ученым посредством трех признаков: наличия отдельных от суда сторон, участвующих в деле; равноправия сторон; освобождения суда от процессуальных функций сторон[125].
Из представленного выше обзора мы можем заключить, что выводы о реализации начала в форме через соответствующие цели, субъекты, познавательную схему делались еще в XIX веке. В частности, по итогам обзора позиций выбранных нами авторов получается, что целью классического состязательного процесса не может быть получение достоверного знания о преступлении, он для этого не подходит. А это значит, что и познание в указанном процессе отличается от познания в следственном процессе. Если быть точнее, то не познание, а рассмотрение, так как в состязательном процессе познание в более или менее полноценном понимании этого слова осуществляют только стороны, имея возможность «выбирать» доказательства в обоснование своей позиции, отбрасывая ненужное. В этой ситуации суд устанавливает убедительность и логичность одной позиции по отношению к другой, а это совсем иной механизм мыследеятельности, нежели в следственном процессе. В последнем субъект обязан сам сделать вывод об обстоятельствах, имеющих значение для дела, на основании собственной познавательной деятельности. Если в результате состязательного процесса может получиться убедительный, логичный вывод, но не всегда достоверный (так как суд не проверяет то, что представили стороны, ничем, кроме того, что представили стороны), то в результате следственного процесса вывод об обстоятельствах совершения преступления должен получаться достоверный.
Ярко прослеживается сущностное отличие форм через второй выделенный нами аспект соотнесения начала и формы – положение субъекта. Так, у Я.И. Баршева формы различаются через определение субъекта, от которого зависит движение в процессе, – частное лицо или суд, независимо от воли частного лица. В.А. Линовский, исходя из этого же понимания, обоснованно, на наш взгляд, связал установление следственной формы в отечественном процессе с появлением особых уполномоченных государством субъектов – губных старост. К. Миттермайер указывает на особое «непознавательное» положение субъекта в обвинительном процессе. И.Я. Фойницкий описание различий форм также ведет через понимание природы субъекта деятельности при разных началах. Выходит, и в период формирования и расцвета уголовно-процессуальной науки было пусть и не объясненное, а только зафиксированное, но понимание, что если процесс стоит на страже интереса общественного, то не может быть у него иного субъекта, нежели орган «от общества», государственный.