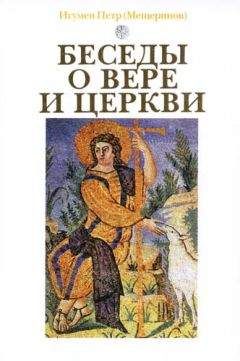И. Потапчук - Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века
Владимир Фольборт, эскадронный командир лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, показал: «Бартенев, вступив в полк, умел себя замечательно хорошо поставить среди товарищей. Доброта его выражалась в отношении и к нижним чинам. 15 июня мы с эскадроном были в поле; утро было замечательное, местность живописная; среди разговора Бартенев вдруг сделался меланхоличным и заговорил на тему, что он не так себе представлял жизнь, как она есть на самом деле, что родители его не понимают, не желают доставить ему счастья, но потом оборвал разговор, предложил выпить, а затем предлагал мне в воскресенье поехать с ним и с Висновской ужинать, но я от такого предложения отказался. В понедельник, 18 июня, на ученье я встретился у эскадрона с Бартеневым, и он мне сказал, что чувствует себя нехорошо после вчерашней попойки и что он не хотел бы выезжать в строй. После ученья мы сели завтракать; Бартенев пришел к концу завтрака, съел что-то и предложил нам выпить шампанского; я выпил стаканчик, скоро ушел и больше Бартенева не видел. Бартенев отличается крепким телосложением, но он человек довольно нервный и очень впечатлительный. Особенно на него действовала музыка и сценические представления, доводившие его иногда до слез. Он добрый, веселого нрава, склонен к восторженности, любит музыку и пение, сам обладает высоким тенором; играет чуть ли не на всех инструментах. Жестокости в его характере нет. Умственно он здоровый человек».
Юлий Елец, штабс-ротмистр лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, так охарактеризовал подсудимого: «Бартенев представлялся мне всегда здоровым человеком в умственном отношении. Он любил выпить и в пьяном виде был надоедлив, но трезвый был спокоен, рассудителен, любил иронически относиться к другим. Характер у него скрытный. Бартенев — это широкая, редко встречающаяся теперь натура с идеальными взглядами на жизнь. Веселый характер и музыкальные способности делали его приятным в обществе. Я часто его останавливал от вина, говорил, что так можно спиться с круга, но это не помогало, и он как бы хвастал умением выпить более других. В декабре он резко изменился, это была тень прежнего веселого Бартенева. Мрачный, необщительный, он или исчезал по целым дням, или сидел в полку за бутылкой. Затем я уехал, а в феврале нашел Бартенева еще более мрачным и задумчивым, и как-то в разговоре он выразил намерение покончить с собою, говоря, что это у них в семье».
Такие же отзывы дали товарищи Бартенева корнеты Крум и Григорьев. Между прочим, они показали, что Бартенев не любил, чтобы с ним говорили о Висновской, он, по-видимому, очень ревновал ее.
О состоянии Бартенева лица, видевшие его спустя несколько часов после смерти Висновской, показали: Александр Лихачев, ротмистр лейб-гвардии Гродненского гусарского полка: «19 июня, между пятью и шестью часами утра, я услышал сильный стук в дверь, и когда денщик открыл дверь, в комнату вошел Бартенев, скинул шинель на кровать и, обращаясь ко мне, сказал: «Вот мои погоны», сделав жест по направлению к погонам, потом прибавил: «Я застрелил Маню!» Спросонья я не разобрал слов Бартенева, встал и спрашиваю: «Какую Маню?» Бартенев ответил: «Я застрелил Висновскую», затем, повернувшись к шинели, сказал: «Вот и револьвер», намереваясь его вынуть, но я просил его оставить, оделся и вышел, надев шинель Бартенева, так как не хотел оставлять револьвера из опасения самоубийства. Корнет граф Капнист и штаб-ротмистр Елец, отправленные в город, удостоверили факт убийства, и я тогда отправился с докладом к полковому командиру. О подробностях я не расспрашивал Бартенева. Пьян он не был, хотя вообще любил выпить. Он явился в сильно возбужденном состоянии, глаза' были как у помешанного — блуждающие, на лице показывались судороги, и хотя речь и движения были спокойны, но по всему было видно, что он сильно расстроен. Когда я одевался, он произнес отрывочные фразы, говорил, что у него с Висновскою было условлено умереть вместе и что он не знает, почему себя не застрелил».
Юлий Елец, штабс-ротмистр лейб-гвардии Гродненского гусарского полка: «В 5 ч 20 мин меня разбудил граф Капнист словами: «Вставай скорее, Бартенев убил Висновскую; он теперь у Лихачева, который едет к генералу, а я в город, чтобы удостовериться. Побудь пока с ним!» Я побежал к Лихачеву, посреди комнаты, с блуждающими глазами, стоял Бартенев. «Что ты наделал?» — сказал я ему. «Я сейчас ее убил; мы решили покончить с собою»,— отвечал Бартенев. «Да ты опомнись, может быть, она сама застрелилась?» — «Нет, нет, я отлично помню, как выстрелил в нее, в упор; она несколько секунд дрожала и умерла со словами: «Прощай, я тебя люблю!» Я не понимаю теперь только одного, как это я остался жив, отчего я не лег там рядом с ней, ведь все уже было готово!» Когда я после поездки на Новгородскую вернулся в полк, то застал Бартенева над выдвинутым ящиком своего стола, перебирающим какие-то письма. «Это ее!» — обратился он ко мне и зарыдал; когда он хотел разорвать письма, я остановил его и сказал: «Не рви их, может быть, в них что-нибудь есть, могущее смягчить твою участь», и отобрал у него письма».
Герасим Сечинский, корнет лейб-гвардии Гродненского гусарского полка: «Когда после убийства Бартенев в казармах вышел из квартиры в сад, то там он нам рассказывал, что у него с Висновской было давно решено, что они лишат себя жизни и что это решение было вызвано тем, что брак между ними невозможен. В шестом часу утра ко мне пришли Бартенев с Крупенским; Бартенев держал погоны в руках и, войдя в комнату, бросил их на стол. У него был совершенно ненормальный вид: глаза и выражение лица были тупые, под глазами красные пятна, часто хватался за голову и говорил так тихо, как будто бы беседовал сам с собою. Мне тяжело было первому начать разговор, и я ждал, когда Бартенев сам начнет рассказывать. Он начал тихо рассказывать, что у них было давно решено лишить себя жизни, что однажды она уже отравилась, но не умерла, что в этот последний раз она привезла револьвер, опиум и хлороформ, что когда Висновская заснула на его руке, он выстрелил ей в упор, под левую грудь. «Я,— сказал Бартенев,— подлец и сам не понимаю, как я себя не застрелил».
Граф Василий Капнист, корнет того же полка: «В 5 часов утра меня разбудил Лихачев, сказал, что Бартенев убил Висновскую, и послал меня в город удостовериться. Я зашел к Лихачеву на квартиру; Бартенев, увидев меня, пошел мне навстречу, пошатываясь, с сильно изменившимся лицом; голос у него был хриплый, он спросил меня: «Ты знаешь обо всем?» Мне было больно на него смотреть, и я уехал».
Павел Крупенский, корнет того же полка: «19 июня в 6 ч утра ко мне вошел Сечинский и сказал: «Бартенев убил Висновскую!» Я не поверил, но вскоре Лихачев подтвердил печальное известие. В коридоре я встретил Бартенева и сказал ему: «Какое несчастье», на что он ответил: «Пойдем, я тебе все расскажу!» Мы вошли в квартиру Сечинского. Прежде всего меня неприятно поразило хладнокровие Бартенева: он говорил довольно скоро, изредка нервно вздрагивал и хватал себя за голову, не отказался выпить стакан чаю, пьян не был. Рассказывая уже известную историю убийства, Бартенев прибавил: «Не знаю, как случилось, но я подлец, что не застрелил себя, ведь мы решили убиться!» Эти последние слова он сказал как-то отрывисто, не обращаясь ни к кому, а как бы к самому себе, не сознавая в эту минуту нашего присутствия. «Затем,— продолжал Бартенев,— я схватил шинель и с револьвером в руке бросился бежать; добежав до первых дрожек, я не знаю, как доехал до Лазенок». Заснула ли Висновская на его плече, когда он в нее стрелял — этого он не объяснил. Кроме того Бартенев пояснил: «После выстрела она на меня взглянула такими полными благодарности и любви глазами, которых я никогда не забуду, и на прощание сказала: «Adieu, je t’aime!» Просидев у Сечинского полчаса, мы вышли в сад, где находились другие товарищи, и, обратясь к Фольборту, Бартенев сказал: «Надеюсь, вы мне сегодня разрешите не быть на ученье». Гуляя по садику со мною, Бартенев говорил, что он знает, что совершил преступление, желал бы знать, что ему за это будет и может ли он остаться в полку во время следствия; Бартенев говорил, что и из каторги возвращаются, и что он желал бы обеспечить мать Висновской; кроме того, он говорил мне, что отправится в монастырь. Зная, что он не отличается религиозностью, я заметил, что это смешно и что он должен поискать другой способ нравственно смыть с себя это пятно. Бартенев говорил, что он не мог жениться на Висновской, так как родители его не согласились бы на этот брак, а жить с Висновскою вне брака было немыслимо. Затем Бартенев был подвергнут аресту в своей квартире, но просил, чтобы с ним находились товарищи; когда ему объявили, что его отправят на гауптвахту, он стал собирать некоторые свои вещи и сказал, что не желает, чтобы читали его родственную переписку; просил меня ее уничтожить. Я, рассматривая письма, бросал их в печку, а три письма Висновской были взяты Ельцом для приобщения к делу. В эти тяжелые минуты хладнокровие не покидало Бартенева даже тогда, когда он видел, как мы все были взволнованы и Елец вдруг зарыдал. Бартенев сам стал его успокаивать. Наконец мы простились и его увезли на гауптвахту».