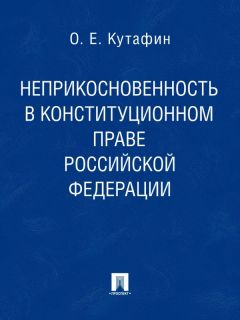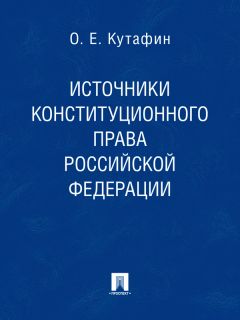Олег Кутафин - Российская автономия
Рассматривая национальную автономию, он указывал, что она характеризуется организацией местной школы, местного суда, местной администрации, местных органов власти, местных общественных, политических и просветительных учреждений с гарантией полноты прав местного, родного языка во всех сферах общественной жизни. Именно в этом он видел ее суть.
«Местная советская власть в руках национальных низов, – писал он, – это советская национальная автономия»[160].
С этих позиций он считал недостаточным утверждение, что автономные области по своим правам ничем не отличаются от любой губернии. Хотя формально это так и есть, но фактически население автономных областей обогатилось новым благом национальной свободы, благом жить и развиваться в согласии со своими национальными особенностями.
«Национальная губерния – писал он, – получила права своего национального существования и развития, которых у нее раньше не было. Но если бы политика рабочего класса в национальном деле ограничивалась голым провозглашением этих прав без реальных шагов к их осуществлению, можно было бы, пожалуй, говорить, что к обычной советской автономии национально-областная автономия ничего не прибавляет. Однако мы знаем, что одно из драгоценнейших прав отсталых наций в Советском Союзе есть их право на активную помощь, и праву этому корреспондирует обязанность «державной» нации оказать помощь, которая есть только возвращение долга. Это право и эта обязанность имеют своим источником не столько соображения справедливости, или виновности, или ответственности, сколько создание пролетариатом своих классовых интересов и интересов мировой революции. Поэтому и граница правообязанности вполне реальна: интерес рабочего класса, которому подчинены все другие интересы, значит, и национальные»[161].
Г. С. Гурвич указывал, что тот же самый принцип – право на свободное национальное развитие, предлагающее братскую взаимопомощь наций в своем реальном существовании, лежит и в основе организации автономных республик. То обстоятельство, что органы власти этих республик именуются не губернскими исполнительными комитетами и их отделами, а центральными исполнительными комитетами и народными комиссариатами в связи с тем, что шесть (обычно) из этих наркоматов выделяются из общей административной системы с установлением их ответственности перед ЦИК автономной республики и ЦИК федерации, обычно трактуется в литературе как большая сравнительно с автономными областями самостоятельность этих республик и большая их независимость от центральной власти.
«Между тем, – писал он, – при всей бесспорности устанавливаемого таким образом различия, оно лишено в нашей системе всякой характерности и может задерживать на себе внимание наблюдателя лишь постольку, поскольку его интересуют исключительно юридические формы. Мы не склонны отрицать своеобразную важность этих юридических форм и существующей стадии советского государства и необходимость их выяснения и изучения, но мы хотели бы всегда помнить, что умозаключать нужно не от формы к содержанию, а обратно. Там, где большая или меньшая самостоятельность разнонациональных частей государства знаменуют большую или меньшую национальную исключительность, там, где большая независимость области означает для представляющей нацию буржуазии большую возможность противопоставить себя господствующей нации, т. е. государству, там достигнутая степень самостоятельности имеет весьма важное значение, как этап к вожделенной цели – суверенному государственному существованию. Но в государстве пролетарской диктатуры все то, что характеризует отношение к центру мест вообще, характеризует также и отношения национальных областей к общенациональному центру в частности. Когда нет классовой розни, нет отношений эксплуатации и подчинения, то о какой самостоятельности и независимости может идти речь? Независимость от кого? Самостоятельность – для чего? Если, тем не менее, мы говорили о большей, сравнительно с Автономными Областями, самостоятельности Автономных Республик, то это может означать и в действительности означает только одно: Автономная Республика менее нуждается в поддержке, помощи и руководстве центра, чем Автономная Область. Ее культурные достижения выше, ее трудящиеся массы сознательны, они крепче держат власть в своих руках и ближе подошли к аппарату законодательства и управления. Есть, поэтому, возможность предоставить ее до известной степени самой себе в тех отраслях общественной жизни (Просвещение, Земледелие, Внутренние дела, Народное здравоохранение, Суд), которые непосредственно и тесно связаны с национальными особенностями, с бытом, с традиционным укладом и имеют поэтому основное значение для развития нации как таковой. Означает ли это «больше автономии», т. е. больше свободы? Нет, – ибо национального гнета не существует ни для Области, ни для Республики. Но это означает больше трудностей, больше ответственности нации перед самой собой и предполагает, следовательно, больше культурных сил и культурной самостоятельности»[162].
Г. С. Гурвич полагал, что там, где капитал, не желая выпускать из своих рук нации и земли как объекты эксплуатации, пускает в ход «автономные формы» в качестве средств эксплуатации, там автономия – один из способов преодолеть на некоторое время центробежные тенденции. Там же, где добровольно объединяются нации, уничтожив частную собственность на орудия производства и тем самым все предпосылки всех видов угнетения, организуют социалистическое хозяйство, там автономия – один из способов поощрить и облегчить центростремительные тенденции.
Он подчеркивал, что в советской федерации безразлично, как называется тот или другой ее национальный сочлен – областью или республикой: первая такой же полноправный член федерации, как и вторая[163].
К. А. Архиппов считал, что вопросы автономии принадлежат не только к наиболее трудным, но и наиболее благодарным отделам государственного права. По его мнению, именно в сфере автономно-федеративного строительства особенно резко проявляется динамизм, изначальное свойство всякой жизни, в частности правовой. «Поэтому, – писал он, – при исследовании интересующей нас проблемы чрезвычайно важно помнить, что наиболее удачные юридические понятия суть, однако, только понятия-пределы, – понятия лишь условно отображающие богатство юридической жизни. К этому надлежит добавить, что в области исследования проблем автономно-федеративного строительства этих условных понятий-пределов, как понятий общепризнанных, нет и что имеющиеся конструкции теснейшим образом связаны с предметом, который они стремились отобразить, т. е. с конституционным правом «правового», «индивидуалистического», «буржуазного» государства, – и что, стало быть, исследователь советского автономно-федеративного строительства, если он желает дать понятия, адекватные предмету, должен к выработанным догмой государственного права конструкциям, определениям и т. п. подойти сугубо критически»[164].
К. А. Архиппов считал, что отправным понятием при исследовании автономии является понятие самоуправления. Он отмечал, что современная доктрина самоуправления берет свои истоки в воззрениях маркиза д'Аржансона и Тюрго, стремящихся в идеалах полуфеодальной демократической монархии, опирающейся на «свободные общины», найти лекарство от всех зол абсолютизма в эпоху его упадка, в частности средство улучшения государственных финансов. Эти идеи, хотя и федералистские по своему происхождению, были тем живее восприняты буржуазией, потому что они совпадали с ее требованием уменьшения полицейской опеки, давали возможность в органах коммунального самоуправления найти точку опоры для борьбы с королевским чиновничеством.
Французская буржуазия, отмечал К. А. Архиппов, подвергая революционной «критике» существо абсолютизма, противопоставившая ему принципы народного суверенитета и неотчуждаемых прав индивида, вместе с тем практически, в законодательном порядке, выдвинула идею «pouvoir municipal», резко противопоставив его «pouvoir executif». Так зародилась идея «свободной общины» – учения о том, что община имеет как бы естественное право на независимое от королевской администрации управление делами. «Поскольку, – писал К. А. Архиппов, – в процессе овладения буржуазией государственным аппаратом сгладилось классовое различие между всей администрацией и личным составом общинных органов власти, выбранных местным населением, поскольку буржуазией забывалось учение о присущей общине особой «pouvoir municipal», глохли теории, противопоставлявшие власть государственную власти общественной, и на смену им пришла государственная теория самоуправления, признающая, что и власть самоуправляющихся общин есть власть государственная»[165].