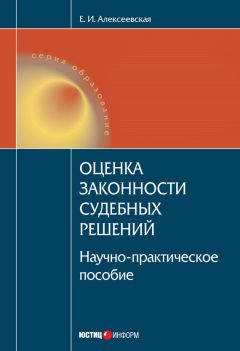Андрей Синявский - Мое последнее слово. Речи подсудимых на судебных процессах 1966 - 1974}
Но 8 месяцев назад, во время обыска в моем доме и моего ареста, положение было совсем иное. Разрешение на выезд получали тогда единицы, и власти пугались лавинообразного нарастания количества заявлений с требованием выезда, и с каждым днем эти требования становились все упорнее. Тогда-то было испробовано испытанное веками средство — запугать евреев. Так начались аресты и обыски в десятках домов Риги, Ленинграда, Кишинева. Арестовали и меня здесь, в Одессе. Мой арест — одно из звеньев этой цепи.
На первом же допросе следователи КГБ упорно добивались, чтобы я назвала своих друзей и знакомых в других городах Союза — я отказывалась отвечать на подобные вопросы. 14 октября 1970 года у меня дома был произведен обыск. Поводом для обыска, как было сказано в ордере, послужил якобы факт кражи денег и ценностей в какой-то школе. Однако лица, производившие обыск, даже не обратили внимания на деньги и другие предметы, могущие заинтересовать милицию, если бы речь шла действительно о краже. Быстро найдя открыто у меня хранившиеся материалы Самиздата, сотрудники, производившие обыск, составили подробную опись стихов, очерков и писем известных писателей и публицистов, и так же быстро поспешили ретироваться. На следующее утро я была вызвана на допрос, — но не в отделение милиции, производившее обыск, а в Комитет Государственной Безопасности. Следователь Ларионов в течение нескольких часов буквально кричал на меня, требуя сказать, от кого и когда я получила изъятые при обыске материалы. Я ему ничего не сказала, а придя домой и заглянув в юридический справочник, с изумлением прочла в статье «Уголовный процесс», что по пункту закона меня вообще никто не имел права допрашивать без предъявления обвинения. Вызванная на следующий день, я сказала следователю, что до предъявления обвинения вообще отказываюсь отвечать на какие бы то ни было вопросы. Тот ужасно возмутился и вышел, заставив меня прождать в закрытом кабинете более трех часов. Через три часа в кабинет вошел какой-то другой сотрудник и выпустил меня. Допросы продолжались почти каждый день, теми же методами, но с тем же успехом, после чего меня почти на месяц оставили в покое, не вызывали на допросы, однако мне стало известно, что, выступая на областном семинаре пропагандистов и агитаторов, председатель Областного одесского управления КГБ Куварзин заявил буквально следующее: «К нам поступили тревожные сведения: на квартире у работника библиотеки Розы Палатник изъято свыше 50 экземпляров антисоветской литературы». Таким образом я узнала что моя участь фактически уже решена, так как сам начальник областного управления КГБ публично признал изъятую у меня литературу антисоветской — не только до суда, но даже до начала официального следствия.
В середине ноября органы КГБ произвели обыск на квартире моих родных в городе Балта, где я уже много лет не жила. Чем еще можно объяснить этот акт, если не желанием запугать и деморализовать моих родителей, и таким образом добиться определенного давления с их стороны на меня. Более месяца за мной была установлена регулярная слежка: куда бы я ни выходила из дому, в будничный или праздничный день, два работника КГБ неотступно следовали за мной. Право же, иногда становилось ужасно смешно: зачем они это делали? Ведь они следили за мной почти открыто, почти не скрываясь. Возле моего дома постоянно дежурила машина. Зачем? Боялись, чтобы я куда-нибудь не убежала, не скрылась от грядущего возмездия? Глупо.
Наконец, меня арестовали. В глубине души, признаюсь, я даже обрадовалась. Закончилось хотя бы странное существование, жизнью на свободе его не назовешь. Ведь я, как миллионы людей в 1937 г., каждую ночь с замиранием сердца прислушивалась к шорохам и шагам на лестнице! И это сейчас, в 1970 году. Следствие по моему делу (мне инкриминировали распространение клеветнической литературы) продолжалось семь с половиной месяцев. Даже неискушенному в юридических тонкостях человеку становится ясно, что обвинению явно не хватало материалов. Если бы речь шла о действительном, а не мнимом преступлении, следствие закончилось бы значительно раньше. Арест мой произошел так:
1 декабря 1970 года меня вызвали на допрос, и после того, как я отказался отвечать на вопросы следователя, предъявили постановление об аресте. Пока я знакомилась с ним и обдумывала, как вести себя дальше, в кабинет вошел начальник следственного отдела полковник Саслюк. Увидев, что я не прореагировала на его приход, он крикнул: «Посмотрите на эту нахалку! Да как же ты можешь ходить по русской земле и жрать русский хлеб?!»
Все эти факты, равно как и многие другие, о которых я сейчас не упоминаю, вызвали во мне вполне понятное недоверие к методам работы органов КГБ, да и к ним самим. Все это послужило причиной моего резкого поведения на следствии, поведения, которое сегодня тоже ставится мне в вину. В других обстоятельствах я попыталась бы доказать следствию, что ни в одном из изъятых у меня произведений и материалов не содержится никакой клеветы на советский строй. Но после всех тех противозаконий, которым меня подвергли на предварительном следствии, я больше не доверяла КГБ и отказывалась участвовать в следствии.
Здесь, на суде, выступавшие против меня свидетели обвинения несколько раз на глазах меняли свои показания, или вовсе отказывались от своих показаний, данных раньше. Я думаю, что это не случайный факт. Во время следствия мне постоянно твердили, что все мои друзья и знакомые дали против меня показания, подтверждающие обвинение, и что мне будет только хуже, если я не перестану отрицать все, в чем меня обвиняют. По-видимому, подобной же обработке подвергались и свидетели, которым, без сомнения, говорилось, что я призналась сама во всем и более нет смысла меня оберегать. Здесь на суде в показаниях свидетелей обвинения фигурировали даже мои частные критические высказывания десятилетней давности, вплоть до недовольства плохим обедом в общественной столовой — и это тоже расценивается как клевета на советский строй' Бывшая заведующая нашей библиотекой Пешонова показала, что я неохотно участвовала в организации стендов, посвященных дню рождения Ленина, полету космонавтов и переписи населения, что я отрицательно относилась к некоторым мероприятиям, которые мы должны были проводить по указанию вышестоящего начальства. Что же, я действительно не раз выражала недовольство формализмом и показухой, с которыми более чем часто приходится сталкиваться библиотечным работникам. Но как можно творческое отношение к своей работе называть клеветой на советский строй — мне непонятно.
Здесь на суде говорили свидетели, что круг моих интересов не ограничивался только художественной литературой Что ж, и это правда. Меня всегда волновали вопросы гражданского самосознания, борьбы национальных меньшинств против дискриминации, вопросы прав Человека Почему мой интерес к проблемам гражданского и международного права может быть назван преступным? Кому это угрожает? Меня обвиняют в хранении очерка Ларисы Б о г о р а з «История одной поездки», где описывается положение заключенных в мордовских лагерях Обвинение утверждает, что очерк этот содержит ложные измышления и тем самым клевещет на советский строй Мне еще не «посчастливилось» увидеть, как живут заключенные в политла-герях, но что такое условия в советской тюрьме, я уже знаю Эти условия я не могу назвать человеческими Я сейчас говорю не о чудовищно антисанитарном состоянии камер, не о голодной пище, которая не может насытить никого и не соответствует никаким человеческим нормам Гораздо страшнее атмосфера постоянной грубости, несмолкающей матерщины, непрерывных унижений, когда каждый и всякий использует любой повод, чтобы словом или жестом показать, что тебя здесь не считают человеком Ему это нравится Так, женщины моются в бане, а мужчина-надзиратель заглядывает в глазок. Закрыть глазок мы не имеем права, — за это карцер, а ему не то что позволяется рассматривать нас, когда охота, — ему инструкцией вменено в обязанность не спускать с нас глаз'.
Поэтому полагаю, что в очерке Богораз-Брухман не содержится клеветы Впрочем, мне скоро придется самой испытать условия, описанные ею. Буду рада, если в очерке содержатся «ложные измышления», как это утверждается в моем обвинительном заключении.
Обвинение почти не останавливается на содержании инкриминируемой мне литературы, называя ее «нелегальной» и «клеветнической» лишь потому, что она напечатана не типографским способом, а на пишущей машинке Но я глубоко уверена, что ни в стихах Коржавина, ни в песнях Галича нет никакой клеветы Это талантливые литераторы, члены Союза писателей, и пишут они о том, что сами пережили и хорошо знают. Они пишут о бывших в эпоху культа личности беззакониях, жесто-костях, лагерях Но ведь эти явления были' Десять лет назад о них писали во всех газетах' О них говорили с трибуны двух партийных съездов' Почему же сегодня эти темы стали запретны, почему говорить об этом сегодня считается преступлением?