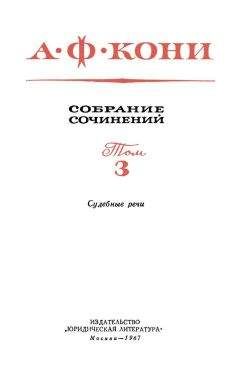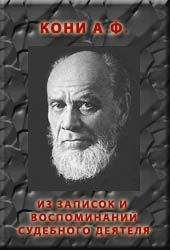Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 1. Из записок судебного деятеля
За завтраком, с прислугой, жадно смотрящей в руку и подающей холодные кушанья и кашинскую мадеру с иностранными ярлыками, Коялович оказался моим соседом. В разговоре с ним я заметил, что он был поражен неожиданностью приема, к которому, вероятно, бедный старик готовился как к одному из важнейших событий своей жизни. Любимова пришлось встретить после приема в коридоре: он шел, понуря голову, разговаривая сам с собою и разводя руками. Мне хотелось подойти к нему и, напомнив ему вкратце его учено-услужливую деятельность, спросить его словами Тараса Бульбы: «Ну что, сынку? Помогли тебе твои ляхи?!…» Решение государя последовало 13 апреля, а 24 в совещании особого присутствия Государственного совета, в которое были введены Победоносцев, Рихтер, Черевин и на место умершего Паукера Гюббенет и в котором отсутствовали Чихачев и Толстой, было решено, «преклонившись с благоговением перед великодушным намерением монарха проявить свое милосердие», прекратить все возбужденные преследования.
В заключение своего постановления совещание сочло своим долгом остановиться на вопросе, не следует ли сделать общеизвестными обнаруженные следствием о крушении императорского поезда обстоятельства и принятые правительством по сему делу мероприятия? В этом отношении совещание приняло во внимание, что общество с живейшим участием следило за всеми появившимися в печати известиями о ходе исследования по сему делу и ныне находится в нетерпеливом ожидании гласного выяснения обстоятельств дела на суде. При таких условиях оставление населения империи в неизвестности относительно добытых исследованием данных и принятых правительством мер, несомненно, породило бы превратные толки и слухи. Во избежание сего и для удовлетворения единодушного желания населения ознакомиться с причинами, вызвавшими событие 17 октября 1888 г., совещание нашло полезным, чтобы главные, выясненные следствием о крушении императорского поезда, обстоятельства и сущность мер, принимаемых по этому делу правительством, были, по воспоследовании высочайшего повеления о прекращении судебного по делу производства, оглашены во всеобщее сведение в форме правительственного сообщения. Вследствие этого совещание положило: I. Судебное производство по делу о крушении, постигшем императорский поезд 17 октября 1888 г., прекратить. II. Предоставить министру путей сообщения войти в рассмотрение обнаруженных следствием неправильных действий и упущений по службе заведовавшего техническо-инспекторской частью охраны барона Таубе и правительственного инспектора железной дороги Кронеберга и подвергнуть их соответствующим мере вины каждого из них взысканиям в пределах дисциплинарной власти. III. Поручить министру юстиции сообщить министру путей сообщения все, содержащиеся в следственном производстве о событии 17 октября 1888 г., указания на неправильности, допускавшиеся в эксплуатации Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. IV. Предоставить ему же, министру юстиции, по воспоследовании высочайшего повеления о прекращении судебного производства по делу о крушении императорского поезда, опубликовать в «Правительственном вестнике» сообщение, заключающее изложение главных обстоятельств, выясненных следствием об этом событии, и сущности принимаемых правительством по сему делу мер.
Это постановление особого совещания было высочайше утверждено 5 мая. Но еще ранее этого Манасеин заявил мне, что по указанию государя редакцию сообщения поручено составить мне, как наиболее знакомому с делом, и обсудить ее в особом совещании из четырех министров: его, Победоносцева, Гюббенета и И. Н. Дурново. Манасеин, видимо, совершенно охладел к делу и махнул на него рукой. Другая «злоба дня» овладела им всецело. Знаменитая резолюция государя на докладе Толстого об упразднении мировых судей и учреждении земских начальников разразилась над ним, как бомба, вызвав сначала попытку решительных возражений с его стороны при обсуждении дела в Государственном совете, в чем сказался его старый служебный опыт, а затем — внезапный переход его на сторону меньшинства, с мнением которого согласился внушаемый Толстым Александр III. Эти колебания, измучив нравственно Манасеина, погубили его одно* временно и во мнении Государственного совета и во мнении государя, пробудив недоверие последнего. В апреле и мае 1889 года Манасеин чувствовал, что почва под ногами колеблется, терял всякую устойчивость и был край-» не нервен. Я составил подробное и мотивированное правительственное сообщение, стоившее мне большого труда, прочел его в совещании министров в какой-то унылой и пустынной комнате Государственного совета. Против опубликования технических данных и выводов экспертизы горячо и бессвязно стал возражать Гюббенет, говоря, что такое объявление во всеобщее сведение есть диффамация вверенного ему ведомства. Но его никто не поддержал; моя редакция была принята, и решено было, напечатав, разослать ее на другой день участникам совещания на предмет детальных замечаний. Через два дня эта редакция была напечатана в окончательном виде с прибавлением лирического конца не без яда против Посьета, составленного Победоносцевым. Но, когда мы собрались 7 мая для утверждения этого проекта, настроение участников совершенно изменилось. Гюббенет озлобленно пожимал плечами, фыркал и заявлял, что никак не может согласиться компрометировать свое ведомство, а Победоносцев вдруг начал говорить, что и самое сообщение представляется излишним: дело предано воле божьей, и, следовательно, нечего о нем много разговаривать и давать пищу газетам. Я с изумлением взглянул на него и сказал: «Но ведь надо же успокоить общественное мнение и дать ему ясное понятие о деле!» — «Какое там общее мнение, — возразил он мне раздражительно, — если с ним считаться, то и конца краю не будет. Общее мнение! Общее мнение! Дело известно государю и правительству, ну и достаточно!» Манасеин молчал. Я стал горячо спорить и сказал, что если такое мнение будет принято, то мне остается пожалеть о том, что я не знал о возможности его раньше и так бесплодно тратил силы, не предполагая, что дело будет решено в застенке, с упразднением всякой гласности. Меня совершенно неожиданно поддержал Дурново, от которого я никак этого не ожидал. «Нет, — сказал он, — так оставлять нельзя: на что же это будет похоже? Будут бог знает что рассказывать. Надо напечатать, да ведь и государь это приказал». Мы сошлись, наконец, на том, что редакция будет сокращена и освобождена от всяких сопоставлений, содержа лишь объективную картину открытого. Я просидел целый вечер и ночь, урезывая и сокращая свой проект, который и был, наконец, принят без возражений, опять с присовокуплением победоносцевской лирики. Но 9 мая Манасеин попросил меня зайти к нему, сказал мне, что остальные члены совещания обратились к нему в Государственный совет с заявлением, что вторая редакция им кажется все-таки слишком подробной для правительственного сообщения и что они убедительно меня просят ее сократить во избежание дальнейших проволочек и разногласий. Я чувствовал, что остаюсь один, что Победоносцев играет в двойную, коварную игру, что меня никто не поддерживает и что дальнейшее колебание и проволочка времени могут свести на нет всякий нравственный и практический результат дела о крушении. Надо было попытаться спасти хоть что-нибудь. С отвращением и болью принялся я за новое сокращение и составил третий проект сообщения — сухой, сжатый до крайности и скупой на характерные подробности. Форма этого сообщения исключала и лирику Победоносцева, содержа в себе лишь точную фактическую мотивировку постановления особого присутствия 24 апреля. Манасеин написал мне, что редакция превосходна и что он представляет ее государю, как результат совещания министров. Но, несмотря на волю государя, так ясно выраженную мне при представлении и в утверждении постановления особого присутствия 24 апреля, никакого правительственного сообщения сделано не было.
Бюрократическая тина засосала это дело, и мелкие чиновничьи самолюбия засыпали своим канцелярским пеплом работу, в которую было положено столько душевных и телесных сил и опубликование результатов которой было бы доверчивым ответом правительства обществу. Все ограничилось рескриптом председателю комитета министров от 13 мая с весьма неопределенным и непоследовательным содержанием, причем «монаршее милосердие» было мотивировано «божьей милостью», в которой усматривалось «грозное внушение свыше» каждому из поставленных на дело начальств верно соблюдать долг своего звания; да еще изданием Синодом последования благодарственного молебствия месяца октября в 17 день, в котором говорилось, между прочим, почему-то приуроченное к спасению от опасности желание: «Никто же в нас да не глаголет высокое в гордыне и да не изыдет велеречие из уст наших, да не хвалится в нас мудрый мудростью своею и сильный силою своею и богатый богатством своим».