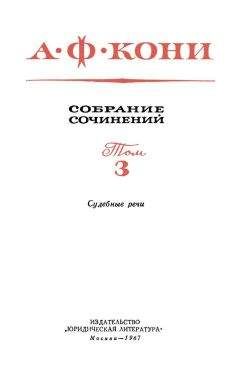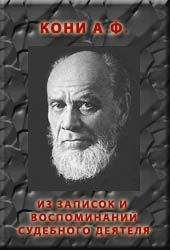Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 1. Из записок судебного деятеля
Когда, уйдя от него, я вспомнил наш разговор, я видел, что на горизонте вырисовывается возможность полного прекращения дела… Это было бы горько в смысле напрасной траты громадного труда и усилий, в него положенных, но с точки зрения справедливости против такого исхода трудно было что-либо возразить серьезное. Там, где невозможно равномерное для всех правосудие, могла быть уместна равномерная для всех милость. Но, во всяком случае, если бы такой исход последовал, — а судя по заявлениям Победоносцева, он начинал грозить, — необходимо было все данные, открытые следствием, опубликовать в сжатом, но ярком виде во всеобщее сведение, заменив упраздняемый в данном случае суд коронный свободным судом общественного мнения и печати. Волнуемый этими мыслями, после совершенно бессонной ночи, я написал Победоносцеву большое письмо, в котором настойчиво просил его употребить все свое влияние, чтобы, в случае прекращения, согласно высказанному им желанию, дела государем, были подробно оглашены в особом правительственном сообщении все причины крушения и все злоупотребления, открытые следствием. Это являлось необходимым как для прекращения последних на будущее время, так и для сохранения хотя бы отчасти достоинства самого правительства. Кроме того, такое сообщение сразу поло-жило бы конец всем лживым и превратным толкам о крушении, начиная с обвинения самого государя и кончая намеками на политическое преступление. Сколько помнится, я указывал и на то, что подобное опубликование даст хоть какое-нибудь нравственное удовлетворение тем, кто вложил в это дело столько сил, труда и здоровья… Через несколько дней, 13 апреля 1889 г., я нашел у себя карточку Победоносцева с загадочной надписью: «Я сделал, что мог».
Около этого времени умер узкий специалист и своеобразный старый холостяк Паукер, и на его место был назначен сенатор Гюббенет, напыщенный и недалекий человек, взявший себе в товарищи обер-прокурора Евреинова. Таким образом, по неисповедимой воле русского бога техническое министерство, в котором обнаружена была полная неурядица, отдано было двум юристам. Я был на выходе к пасхальной заутрене, в Зимнем дворце, когда сделалось известным назначение Гюббенета. Я видел его быстро шедшим по зале в церковь в роскошно расшитом мундире. Трудно изобразить то сияние самодовольства, которое блистало на его лице. Казалось, он не идет, а дворцовый паркет его почтительно подбрасывает. Не таков он был, когда за год перед этим я встретил его в Берлине, в маленьком ресторанчике на Friedrichstrasse *, сидящим за селедкою с картофелем и глазеющим на проходящих неуклюжих немецких кокоток, — и он, увидя меня, счел, по-видимому, что есть селедку — дело постыдное, и стал сконфуженно оправдываться и объяснять мне, что ест это кушание «из любопытства». Не таков он был, конечно, через два года, когда Александр III уволил его из министров, позабыв назначить членом Государственного совета, и он в отчаянии думал, что вынужден возвратиться в Сенат.
Полученная к пасхе звезда, согласно установленному порядку, заставила меня представиться государю. За два дня до этого Манасеин рассказал мне об окончании дела о крушении. Он и великий князь Михаил Николаевич, по-видимому сконфуженный результатом совещаний департамента гражданских и духовных дел о Посьете и Шернвале, явились в Гатчину вместе для доклада о состоявшемся решении. «Как? — сказал Александр III, — выговор и только? И это все?! Удивляюсь!.. Но пусть будет так. Ну, а что же с остальными?» — «Они, — объяснил Манасеин, — будут преданы суду Харьковской палаты и в ней судиться». — «И будут осуждены?» — спросил го" сударь. «Несомненно!» — «Как же это так? Одних судить, а другим мирволить? Это неудобно и несправедливо. Я этого не хочу! Уж если так, то надо прекратить все дело; я их хочу помиловать, тем более, что в Харькове есть обвиняемые, которых искренно жаль. Вот, например, Кронеберг, о котором Кони мне сказал, что он «бился, как пульс, борясь с злоупотреблениями». Если бы дело получило полную огласку, то с этим можно было бы еще помириться. Но благодаря фиктивности самодержавия в стране, которая, по словам Николая I, «управляется столоначальниками», произошло нечто иное, и «псари» решили иначе, чем обещал и находил необходимым «царь».
Представление произошло в обычной обстановке того времени и царствования. Наполненный представляющимися поезд Варшавской дороги: суетящиеся придворные лакеи в Гатчине; парк, оживленный первым дыханием весны; долгое, долгое ожидание в низкой под сводами комнате, в углах которой были устроены: детский театр, катальные горы и склад игрушек, и на стенках, вероятно, для поднятия духа представляющихся развешаны карикатуры Зичи на приближенных Александра II; любезный дежурный флигель-адъютант, великий князь Петр Николаевич и, наконец, почти неожиданное появление самого. Мы едва успели встать в некотором порядке, и мне пришлось очутиться между известным профессором Кояловичем и знаменитым Любимовым — другом, советником и наперсником Каткова. Государь, подавая руку тайным советникам и генерал-лейтенантам, довольно быстро обходил присутствующих, останавливаясь против каждого на несколько секунд и задавая иногда самые неудачные вопросы, что случалось с ним нередко. Я помню, как однажды представлявшегося по случаю пятидесятилетнего юбилея своего и получения Владимира I степени, действительно знаменитого трудами своими и заслугами строителя Николаевского моста, действительного тайного советника Кербедза он нашел нужным спросить не о чем другом, как о том, постоянно ли он живет в Петербурге? У государя был обычный при представлениях ему хмурый вид; он смотрел сурово и неласково: говоря с одним, косился на следующего; часто нервно потирал рукою свою лысину или брал в руку концы своих аксельбантов. Это был совсем другой человек, чем тот, которого я видел полгода назад. Печать усталости лежала на его лице, и от него веяло холодом. Вскоре он очутился против моего соседа справа, профессора Петербургской духовной академии Кояловича. Трудолюбивый ученый, историк уний и наших отношений к Польше и католицизму в Западном крае, много и усердно послуживший по-своему русским государям в «сем старом споре славян между собою» и, наконец, дождавшийся счастья узреть того монарха, права которого на целый край он разъяснял и защищал всю жизнь, Коялович был вправе ожидать привета и даже сознательной благодарности. Но государь даже не познакомился с прошлым тех лиц, которые ему представлялись, и совершенно равнодушно спросил седого, старого Кояловича, назвавшего себя и место своего служения, где он окончил курс? Что он преподает? И всегда ли он живет в Петербурге? — и тотчас же обратился ко мне. Взглянув на меня, как на знакомого, причем нечто вроде приветливой улыбки озарило на мгновение его желтоватое лицо, он спросил: «Вам известно, что я решил сделать со следствием? Вам говорил об этом министр юстиции?» Эти слова были сказаны тоном, который давал мне повод ответить не только утвердительно. «Министр юстиции, — сказал я, — сообщил мне и о решении Вашего Величества, и о соображениях милосердия, которыми оно вызвано. Будет, однако, грустно, если все дело канет в вечность без ознакомления общества со всеми открытыми злоупотреблениями, так как иначе все будет продолжаться по-старому, а в обществе начнут ходить вымыслы и легенды очень нежелательные». — «Нет, — сказал государь, — этого не будет, я прикажу напечатать подробный обзор дела, который вы и составите, а также поручу министру путей сообщения получить от вас подробные сведения о всех беспорядках, которые он должен устранить. Ваш большой труд не пропадет даром». Он приветливо мне поклонился и перешел к Любимову. Автор запальчивых и ядовитых статей о французской революции под заглавием: «Против течения», ближайший после Леонтьева сотрудник Каткова и соправитель по изданию «Русского вестника» и отчасти «Московских ведомостей», профессор физики, яростно ратовавший за классическую систему образования и певший хвалебные гимны Толстому, Любимов, в свою очередь, мог ожидать ласкового приема от монарха, за божественное право которого отдавать русскую молодежь, а затем и русские общественные учреждения в удушающие объятия графа Д. А. Толстого он так распинался в печати. Но, увы! С ним повторилось то же, что с Кояловичем, и его — члена совета, министра народного просвещения — государь безучастным и скучающим тоном спросил о том, где он окончил курс, постоянно ли он живет в Петербурге и — horribile dictu [70] — чем он занимался до назначения на настоящую должность.
За завтраком, с прислугой, жадно смотрящей в руку и подающей холодные кушанья и кашинскую мадеру с иностранными ярлыками, Коялович оказался моим соседом. В разговоре с ним я заметил, что он был поражен неожиданностью приема, к которому, вероятно, бедный старик готовился как к одному из важнейших событий своей жизни. Любимова пришлось встретить после приема в коридоре: он шел, понуря голову, разговаривая сам с собою и разводя руками. Мне хотелось подойти к нему и, напомнив ему вкратце его учено-услужливую деятельность, спросить его словами Тараса Бульбы: «Ну что, сынку? Помогли тебе твои ляхи?!…» Решение государя последовало 13 апреля, а 24 в совещании особого присутствия Государственного совета, в которое были введены Победоносцев, Рихтер, Черевин и на место умершего Паукера Гюббенет и в котором отсутствовали Чихачев и Толстой, было решено, «преклонившись с благоговением перед великодушным намерением монарха проявить свое милосердие», прекратить все возбужденные преследования.