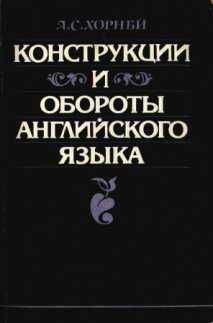Виктор Шкловский - Повести о прозе. Размышления и разборы
Теперь Быков предложил женитьбу; ему надо лишить племянника наследства. Про Девушкина он знает; хочет послать ему пятьсот рублей; спрашивает — довольно ли. Как будто все хорошо. Удача героини романа Ричардсона Памелы повторилась. Доброселовой возвращено честное имя; не осталось времени и думать. Письмо кончается страшными словами: «Быков уже здесь».
Быков заказывает для Вареньки богатое приданое, и тут Достоевский дает психологическую деталь: Варенька решилась на брак, потому что ей некуда деваться и потому, что не хочет погубить Девушкина. Брак для нее тяжек, тем более что Быков настоящий отец Покровского; он мог бы спасти человека от болезни и от нужды, но просто не захотел.
В то же время Доброселова начинает помыкать Девушкиным, забрасывая его поручениями, все время напуганно и ошеломленно повторяя про «господина Быкова».
В письме от 27 сентября выражение «господин Быков» на одной страничке повторено семь раз. То, что господин Быков не стал просто Быковым, став женихом, то, что его Варенька называет так официально, характеризует ее положение: сама она не госпожа.
В письме дано Девушкину восемь поручений, очень точных и почти пародийных по непонятности терминов.
Этими пародийными терминами И растерянными ответами Девушкина передана трагичность положения.
Варенька пишет: «Да скажите еще, что я раздумала насчет канезу; что его нужно вышивать крошью. Да еще: буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром; слышите ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же не забудьте, что тамбуром! Вот еще чуть было не забыла! Передайте ей, ради бога, чтобы листики на пелерине шить возвышенно, усики и шипы кордонне, а потом обшить воротник кружевом или широкой фальбалой…»
Девушкин совершенно запутался и сбился, неверно пересказывая слова и бегая по магазинам на Гороховой.
Он и в церковь не пришел на свадьбу Вареньки — разболелся.
Пишет он про Барину служанку Федору, хочет переезжать к ней на квартиру, то есть на старую квартиру Вареньки: «Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмецо мое вы ниточки начали было наматывать».
У бедного человека остается один мусор и брошенная комната.
Варенька пишет ему письмо с неожиданным обращением «Бесценный друг мой, Макар Алексеевич». И подписывается: «Вас вечно любящая».
Девушкин безнадежно умоляет любимую не уезжать: «Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть, оттого, что он вам фальбалу-то все закупает, вы, может быть, от этого! Да ведь что же фальбала? зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка фальбала; она, маточка, фальбала-то тряпица».
Фальбала неожиданно стала главной деталью и звучит, как страшное слово.
Быков и фальбала пришли как рок. Девушкин знает, что Варенька уходит от него не из-за фальбалы, но фальбала оказалась горестной отделкой человеческого несчастья.
Подпись Вареньки на письме тоже не совсем правда. Девушкин только лучше Быкова, хотя сострадательная любовь к нему теперь, в разлуке, будет вечной.
Гибель Вареньки обставлена пустяковыми подробностями. Так как вещи, которые ей дарит. Быков, остаются быковскими, то все эти пустяки и даже слово «фальбала» начинают звучать трагически.
Когда Макар Девушкин безнадежно пытался сделать заем и вымазался в грязи, упав на улице, департаментский сторож отказался почистить его казенной щеткой. Макар Девушкин для других ветошка, рвань, последнее человеческое унижение.
Быков уже покрикивает. Он уже ограничивает женщину в покупках. Его великодушие и задор исчерпаны.
Варенька уезжает, оставляя Девушкину его собственные письма. Вместо развязки дано уничтожение героев.
Вот с каким романом ночью прибежали к Белинскому Некрасов и Григорович. Вот о каком романе говорили, что появился новый Гоголь.
Так начался спор «за» и «против», полный неожиданностей.
Белинский назвал «Бедных людей» «первым русским социальным романом». Появилась слава, появились слухи, и гордость писателя, и эпиграммы на него, и всякая иная. «фальбала».
Литературная эволюция — явление очень сложное.
Прежде всего, эта «эволюция» перебивается сдвигами, сбросами. Литературные пласты оказываются смятыми горным давлением истории. Литературные сдвиги ощущаются современниками как смена школ; разговоры об этих сменах школ могут быть тоже смятыми и спутанными, но смена школ — это реальность ощущения времени. Это изменение структур привычных значений вещей. В то же время это изменение взаимоотношений того, что в прошлом казалось закрепленным навек.
Поэтому одно то, что эпоха Гоголя ощущается всеми современниками как эпоха смены систем, запрещает нам передвигать рубеж сдвига с «Шинели» на «Бедных людей».
Отречение Девушкина от «Шинели», борьба героя новой повести с героем старой повести именно доказывает то, что Девушкин узнает себя в Акакии Акакиевиче; он чувствует себя изображенным, как бы разоблаченным и хочет вернуться в старую, условную форму. Повесть «Станционный смотритель», в которой не дается анализ переживаний героя и есть условная «благополучная развязка», кажется Девушкину более человечной.
Если же говорить о чисто языковой форме «Бедных людей», то в «Бедных людях» много эпистолярной условности, что отмечали современные критики.
Поэтому перенос рубежей новой эпохи с «Шинели» на «Бедных людей» мне кажется неудачно предпринятым.
Настаивая на парадоксальной мысли, В. В. Виноградов затруднил развитие собственного анализа.
Великое ожидание
В России было тихо. Все происходило по правилам: на улицах запрещалось курить; ношение усов штатским — запрещено.
Белинский в статье «Парижские тайны» писал в 1844 году, вспоминая революцию 1830 года:
«Сражаясь отдельными массами из-за баррикад, без общего плана, без знамени, без предводителей, едва зная против кого и совсем не зная за кого и за что, народ тщетно посылал к представителям нации, недавно заседавшим в абонированной камере: этим представителям было не до того; они чуть не прятались по погребам, бледные, трепещущие. Когда дело было кончено ревностию слепого народа, представители повыползли из своих нор и по трупам ловко дошли до власти, оттерли от нее всех честных людей и, загребая жар чужими руками, преблагополучно стали греться около него, рассуждая о нравственности. А народ, который в безумной ревности лил свою кровь за слово, за пустой звук, которого значения сам не понимал, что же выиграл себе этот народ? — Увы! тотчас же после июльских происшествий этот бедный народ с ужасом увидел, что его положение не только не улучшилось, но значительно ухудшилось против прежнего. А между тем, вся эта историческая комедия была разыграна во имя народа и для блага народа!»[180]
Русский критик учил русского читателя и писателя тому, чего еще не понимал Эжен Сю: «…что зло скрывается не в каких-нибудь отдельных законах, а в целой системе французского законодательства, во всем устройстве общества»[181].
Приближался конец первой половины XIX века. Шестьдесят лет прошло с того времени, когда на улицах Москвы, узнав о взятии Бастилии, целовались незнакомые.
Первая французская революция заключила XVIII век, победила, исчерпалась. После нее над миром прошли войны Наполеона, его презрение к обычному человеку и к идеалу; обострилась борьба за богатства.
Великое разочарование овладело человечеством. Оно осталось бедным, несчастливым и обманутым.
Вот что писал Достоевский о Великой французской революции, связывая ее неудачи с появлением байронизма, с новой надеждой человечества — социализмом. (Статья написана в 1877 году.)
«После исступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашённой в конце прошлого столетия во Франции, в передовой тогда нации европейского человечества наступил исход, столь не похожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты… Новый исход еще не обозначался, новый клапан не отворялся, и все задыхалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт»[182]. Таким гением Достоевский считал Байрона.
Стояло рядом в первой половине прошлого столетия женское имя.
Достоевский в «Дневнике писателя» по поводу смерти Жорж Санд писал: «Это одна из наших (т. е. наших) современниц вполне — идеалистка тридцатых и сороковых годов. Это одно из тех имен нашего могучего, самонадеянного и в то же время больного столетия, полного самых невыясненных идеалов и самых неразрешимых желаний…»[183]