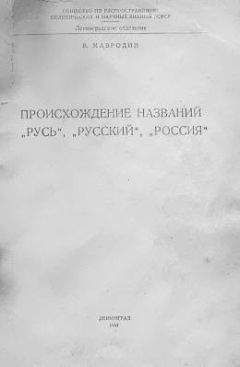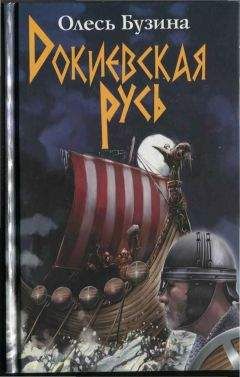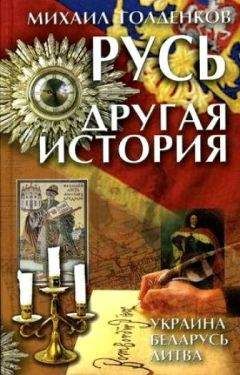Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Виктор Гюго. Рисунок Натана Альтмана. 1961
Последний огонек был гребнем вод покрыт.
Ни дня, ни ночи нет. Есть только плач навзрыд
Да темень. Не давал восток рассвету хода,
Казалось, сожрала пучина свет восхода.
С небес, раскрывшихся пучиною без дна,
Исчезли без следа и солнце, и луна.
Из необъятности, из этой черной пасти
Полил свирепый дождь и выползло ненастье.
Гроза и вихрь свились и бросились в разгул.
Из глуби слышались, перекрывая гул,
Вселенским ужасом наполненные крики.
Вдруг замолчало все. Смирился ветер дикий.
Над горной кручею, не устремляясь вниз,
Восстал огромный вал и в небесах повис.
Закон стихии тверд – усильем небывалым
Последнего орла накрыть последним валом.
Конец. Вселенная наказана, и вот
Незыблемая мгла легла на лоно вод.
Молчание царит в пустом и мрачном мире.
Земля, шар водяной среди небесной шири,
Беззвучна и темна, бездвижна и гола,
Огромною слезой во мраке поплыла.
Долголетнее кипучее реформаторство Гюго сказалось в раскрепощении едва ли не всех отраслей писательской работы от окостенелых установок. Решительнее, чем кто бы то ни было из его круга, ломал он привычные перегородки между жанрами, понуждавшие прибегать к заштампованным раз и навсегда условностям-«поэтизмам», освежал свой слог токами обиходного языка. И в этой перестройке, как и в своих вольнолюбивых убеждениях, Гюго по праву считал себя достойным проводником освободительных заветов революции конца XVIII в., отважившимся «на дряхлый наш словарь колпак надвинуть красный».
Нет слов-сенаторов и слов-плебеев! Грязь
На дне чернильницы я возмутил, смеясь.
Да, белый рой идей смешал я, дерзновенный,
С толпою черных слов, забитой и смиренной,
Затем что в языке такого слова нет,
Откуда б не могла идея лить свой свет.
………………………………………………
Я взял Бастилию, где рифмы изнывали,
И более того, я кандалы сорвал
С порабощенных слов, отверженных созвал
И вывел их из тьмы, чтоб засиял их разум.
Я перебил хребты ползучим перифразам.
Угрюмый алфавит, сей новый Вавилон,
Был ниспровергнут мной, разрушен и сметен.
Мне было ведомо, что я, боец суровый,
Освобождаю мысль, освобождая слово.
Могучий дар Гюго, ошеломляющий своей избыточно обильной всеумелостью, воспринимался во Франции XIX века как «неистощимое чудо» (Бодлер) даже теми, кто намеревался в своих исканиях пойти дальше и другими путями. XX век сохранил почтительное изумление перед этой богатырской мощью и в тех нередких случаях, когда оспаривал ее достоинства, ссылаясь на встречающиеся у Гюго пустоты, многословие, гулкие прописи, – так подмечают пятна на солнце.
Хладнокровные мастера
Грозовое трехлетье в истории Франции, открывшееся революционной «весной народов» в феврале 1848 года и плачевно завершившееся декабрьским государственным переворотом 1851 года, когда власть в стране захватил племянник Наполеона Луи Бонапарт, оказалось переломным и для всей французской культуры. Пересмотр былых ее установок обрел отчетливость в поэзии даже раньше, чем где бы то ни было, с появлением в 1852 г. двух книг: «Эмалей и камей» Готье и «Античных поэм» Леконт де Лиля. Словно бы сделав у Готье изящно-легкий прощальный кивок в сторону романтических излияний раненого сердца и пылкого проповедничества, французское стихотворчество откачнулось от всего этого по указке Леконт де Лиля с сердитым раздражением.
Как выяснилось полвека спустя, дорога, предпочтенная тогда, была скорее тупиковой, хотя и не без своего сравни тельно успешного начального отрезка – двадцатилетия между поражением революции 1848 года и Парижской коммуной. Он завершился выходом в 1866 г. альманаха «Современный Парнас», печатавшегося отдельными авторскими выпусками, и подготовкой к 1869 году следующего, сводного сборника, появившегося два года спустя; третий был опубликован в 1876 г. под тем же названием, уже тогда не лишенным налета намеренной старомодности. Отсюда и прозвище тех, кто там сотрудничал, сперва прозвучавшее насмешливо в устах их соперников, однако подхваченное почитателями и обращенное в похвалу: «парнасцы». Правда, самые одаренные из них – Верлен, Малларме – вскоре предпочтут совсем другие, самостоятельные пути; Бодлер же, давший в альманах несколько своих вещей, и сразу был до статочно чужд отправным посылкам составителей. Тем не менее ряд собственно парнасцев – парнасцев не просто по принадлежности к этому писательскому кругу, но по коренным воззрениям и вкусам: Леконт де Лиль, Эредиа, Теодор де Банвиль, ранний Анатоль Франс – снискали немалое при знание и во Франции, и в других странах, включая Россию, где среди их поклонников были Анненский, Брюсов, Гумилев, Лозинский.
При обычной для подобных содружеств разнице между отдельными его приверженцами все они сходились в своих стараниях приглушить, загнать под спуд былую личностную исповедальность, перенеся упор на описательную зарисовку – если не вовсе бесстрастную, то долженствующую выглядеть безличностно-отстраненной: пластическая зрелищность, застывшее скульптурное равновесие явно подминают здесь душевное самовыражение. О себе и сегодняшнем тут упоминают крайне неохотно, гораздо увлеченнее зарываются в прошлое. Однако и тогда сбивчиво приблизительная, зато одухотворенная мифотворческая историософия романтиков вытесняется скрупулезной, но зачастую тяжеловесной археологической ученостью знатоков. Природа, не скупившаяся раньше на вести о себе, приветливые или грозные, пред стает у парнасцев безмолвной, еще более безучастной к людским заботам и вопрошаниям, чем это было у Виньи. И если предшественники превыше всего ставили свежесть вдохновения, вольный полет вымысла, сердечную откровенность, то на сей раз самой чтимой добродетелью признается искушенное, опосредованное книжными источниками, трудолюбивое умение. Дар отныне не искра Божья, а врожденные задатки, выпестованные благодаря прилежным занятиям. Парнасец мыслит себя не певцом во власти нахлынувшего вдруг безотчетного восторга или нестерпимой боли, а усердным мастером, вознамерившимся придать своим словесно-стиховым изделиям безукоризненную выверенность, расчисленность до малейших оттенков столь же строгую, как точна в своих расчетах наука.
С предельной заостренностью подход сотрудников «Парнаса» к своему делу выразил (как бывает в таких случаях) запальчивый молодой новобранец их кружка Верлен – незадолго до того как покинуть эту стезю. В эпилоге к «Сатурническим стихам» (1866) он – в противовес непроизвольности «наших Вдохновенных, чьи сердца воспламеняются от случайно брошенного взора и кто вверяет себя всем ветрам, подобно березе», – набрасывал перечень заповедей своих единомышленников, «изготовляющих взволнованные стихи с холодной головой», памятуя, «что искусство вовсе не в том, чтобы выплескивать собственную душу – ведь Венера Милосская из мрамора, не так ли?». «Нам же, склонившимся у стола при свете лампы, нам нужно овладеть наукой и укротить сон, приложив руку ко лбу, как Фауст со старинных гравюр, нужны Упорство и Воля… Наш долг – предаться неустанным ученым трудам, обзавестись способностью к неслыханным усилиям и беспримерным под вигам, ибо только по ночам, из суровых ночных бдений, медленно-медленно рождается Творение, точно восходящее Солнце». Совет по существу своему наиклассичнейший – до воскрешения пусть не буквы, но уж во всяком случае духа французских классицистов XVII–XVIII вв.
Конечно, предписания взнуздать творчество обдуманно безупречной выучкой были внушены отчасти оправданной неприязнью к тем небрежностям исполнения и отделки, что снисходительно благословлялись романтической погоней за раскованностью признаний. Но была здесь и вольная или не вольная ставка на то, чтобы при помощи добросовестного ремесленничества, которое осеняет себя клятвами верности культу взыскательного мастерства, возместить нехватку духовного кислорода в воздухе имперской Франции, зажатой в казарменных тисках, мелкотравчато пошлой в своей деля ческой лихорадке. Помыслы взять вдохновение под опеку хладнокровного интеллекта, никогда не теряющего само обладания и всегда во всеоружии проверенных секретов письма, – намерение, по-своему разделявшееся тогда же и Бодлером, а вскоре доведенное до крайней изощренности Малларме, – сулили стихотворческому хозяйству Франции очередное упорядочение после предыдущей обновленческой «бури и натиска». И все же преувеличенное поклонение если не стародавним правилам, то гладкой правильности одновременно скрывало и выдавало вялость сильно пере охлажденного жизнечувствия, ослабленное напряжение духовно-мыслительной работы у парнасцев, сопутствующую ей одышку. Всем существом они «ненавидят свою эпоху из естественного отвращения к тому, что нас убивает» (Леконт де Лиль) и жаждут избавиться от витающей повсюду, куда ни подайся, удушливой заразы безвременья с такой страстью, что вслед за тем же Леконт де Лилем иной раз бывают готовы забыть о данном себе зароке безучастия: