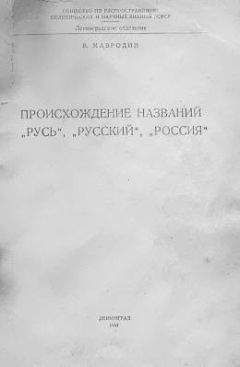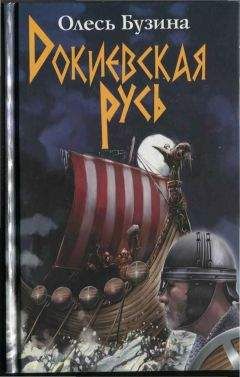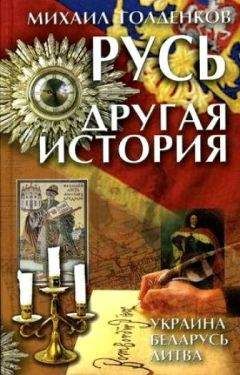Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Рядом с Мюссе весьма на него непохожий Теофиль Готье (1811–1872) как бы описал ту же кривую в обратном на правлении: от крайней разочарованности к безмятежному жизнеприятию. Но и у излечившегося в конце концов от «мировой скорби» Готье потери в душевной напряженности и широте кругозора сравнительно с его наставниками из предыдущего поколения сказались столь же ощутимо.
Первые книги жизнерадостного в быту «доброго Тео», как его звали друзья, насыщены перепевами хандры:
Проглянет луч – и в полудреме тяжкой,
По-старчески тоскуя о тепле,
В углу между собакой и бродяжкой
Как равный я улягусь на земле.
Две трети жизни растеряв по свету,
В надежде жить, успел я постареть
И, как игрок последнюю монету,
Кладу на кон оставшуюся треть.
Ни я не мил, ни мне ничто не мило;
Моей душе со мной не по пути;
Во мне самом готова мне могила –
И я мертвей умерших во плоти.
Сквозь густую завесу подобных скорбных дум с трудом пробивалось исходно присущее Готье отношение к языку как к палитре живописца, к листу бумаги как к холсту и к прилагательному как к мазку («Мое превосходство над другими состоит в том, что для меня внешний мир существует»). Виртуозного совершенства в способности «рисовать» стихами этот, если верить похвале Бодлера, «безупречный чародей словесности» достиг в последней своей книге – блистательно сделанных и холодноватых «Эмалях и камеях» (1852). Каждая из них действительно похожа на драгоценное изделие: изящные, легкие строки прозрачны, полнозвучны в концевых и внутренних перекличках, обычно подчеркивающих все те же зрелищные подробности, плотно и гибко пригнаны друг к другу, образуя выверенную до последних мелочей соразмеренность целого, сработанного с предельным тщанием.
Наслаждаясь сам и приглашая восхититься других своим умением, Готье иной раз вызывающе берется за труднейшие задачи, казалось бы, выполнимые разве что кистью, однако же подвластные и его перу. Скажем – передать множество едва уловимых оттенков белизны, сплетя звено к звену цепочку сопоставлений белоснежной девичьей груди с залитым светом луны горным ледником, подвенечным нарядом невесты, лебе диной шеей, изморозью на оконном стекле, паросским мрамором, морской пеной, крыльями мотылька, распустившимися лепестками боярышника, голубиным пухом… («Мажорно-белая симфония»). В других случаях – как в портрете цыганки, в чьем «дразнящем уродстве есть щепотка соли тех морских вод, из каких древле родилась Афродита», – нагнетание цветовых полутонов черно-смуглого взрывается ударными пятнами противоположной, кроваво-крас ной, но столь же сочной окраски:
Кармен тоща – глаза Сивиллы
Загар цыганский окаймил;
Ее коса – черней могилы,
Ей кожу – сатана дубил.
………………………………
Теофиль Готье. Рисунок И. Кричевского. 1964
На бледности ее янтарной, –
Как жгучий перец, как рубец, –
Победоносный и коварный
Рот – цвета сгубленных сердец.
За этой звонкой, раскованно и ладно играющей словесной живописью ощутима неприязнь Готье к стертой блеклости обывательского прозябания, равно как и к вялому «скорбничеству», не внемлющему благодати тех даров, какими богаты и природа, и все изобилие рукотворных вещей. Дело только в том, что радостное упоение прекрасным у Готье слишком часто уподобляется музейному коллекционерству «за ставня ми, захлопнутыми от урагана» бушующих вокруг людских страстей, в первую очередь – гражданских. Вдохновение тут заметно мельчится; бившая ключом тревожная романтическая мысль сникает, свертывается до любовного созерцания разрозненных крупиц и блесток сущего, превращенного взором собирателя в хранилище роскошных безделушек.
Причины такого обеднения лирики у последнего романтика и первого из парнасцев, охотно признавших в Готье[15] своего старшего наставника, коренятся в выдвинутом им еще в 1835 г. лозунге «искусство для искусства» («прекрасно только то, что ничему не служит; все полезное – уродливо») и вытекавшем отсюда культе самоценного мастерства, каковой он как плодовитый очеркист, прозаик, видный критик затем с неизменной запальчивостью исповедовал до конца своих дней.
Подобно тому как поздний Готье подчеркнутой описательностью своих миниатюр знаменовал очередную смену вех во французской поэзии, по существу выводя ее за пределы собственно романтизма, так и однокашник его по лицею, Жерар де Нерваль (1808–1855), – предтеча поисков, возобладавших в ней лишь к концу XIX в.
Сиротское детство, проведенное у родственников рано умершей матери, пока отец, военный врач, колесил с наполеоновским войском по городам и странам; на пороге взрослой жизни крушение свободолюбивых надежд, взлелеянных в канун революции 1830 года и быстро увядших в «гнилом болоте» Июльской монархии; развал служившего отдушиной богемного содружества «бузенго»; годами – изнурительный труд поденщика пера, безденежье и бездомность; несчастная любовь и смерть обожаемой женщины, оставившие в памяти так никогда и не зарубцевавшуюся рану вместе с подозрениями о каком-то, унаследованном от далеких предков, злом проклятии; учащающиеся приступы неисцелимого душевного недуга и в конце концов гибель (скорее всего – самоубийство) в глухом парижском проулке – Нервалю (настоящее имя: Лабрюни) достался удел «про́клятого поэта», как окрестит вскоре Верлен таких, не столь уж редких во Франции в XIX в., пасынков литературной судьбы. Сам Нерваль скажет об этом с пронзительной грустью в сонете «El Desdichado»[16], одном из самых проникновенных во французской лирике за все ее века:
Я безутешен, вдов, на мне печать скорбей,
Я аквитанский принц, чья башня – прах под терном,
Моя звезда мертва, над лютнею моей
Знак Меланхолии пылает солнцем черным.
Оставленное Нервалем-стихотворцем[17] исчерпывается – если не считать гражданственно пылких, однако ученически подражательных проб пера, о которых он потом сам избегал вспоминать, – всего двумя короткими циклами: «Оделетты» и «Химеры». Оба они так невелики, что он был вынужден печатать их не отдельно, а в приложениях к другим своим книгам. Наряду еще с несколькими вещами, разбросанными там и здесь либо вовсе оставшимися в рукописях, сюда же, к лирике, следует по праву отнести и многие страницы таких повестей Нерваля, как «Сильвия» (1853) и «Аурелия» (1855), где рассказ о действительно случившемся спаян со сновидениями и местными народными поверьями средней Франции.
Жерар де Нерваль. Гравюра Ж.-А. Анрио. 1878
Нервалевские «малые оды», или «оделетты», напоминают возрожденческих, а иногда и средневековых лириков своими строфико-метрическими приемами, своей прелестной свежестью, мягкой грустью, порой напевным изяществом:
Пройдут, как грезы,
Здесь час и год!
Утихнут грозы,
И грусть уйдет,
Как след угрозы
С затихших вод.
Впасть на мгновенье
В блаженный бред!
Лишь в нетерпенье
Страстей секрет:
Миг наслажденья –
И их уж нет!
Гораздо более сумрачные сонеты «Химер» (1854) томимы какими-то трудными философскими прозрениями. Отгадку как собственной участи на земле, так и таинств вселенной Нерваль, переводчик «Фауста» Гёте на французский язык и поклонник немецких романтиков, пробует отыскать в легенде. Отголоски мистерий Ближнего Востока (Нерваль ездил туда в продолжительное путешествие), древнегреческих мифов, христианских преданий, старинного фольклора, алхимических учений, позднейшего масонства – все это сплетено здесь в причудливо личную нервалевскую мифологию, добычу наперебой оспаривающих друг друга толкователей. Подобному сознанию, во всем склонному видеть тайнопись, мироздание чудится одушевленным в каждой своей клеточке, поющим на тысячи голосов для уха, умеющего их расслышать:
Подумай, человек! Тебе ли одному
Дарована душа? Ведь жизнь – всему начало.
Ты волей наделен, и сил в тебе немало,
Но миру все твои советы ни к чему.
Узрев любую тварь, воздай ее уму:
Любой цветок душой природа увенчала,
Мистерия любви – в руде, в куске металла.
«Все в мире чувствует!» Подвластен ты всему.
И стен слепых страшись, они пронзают взглядом,
Сама материя в себе глагол таит…
Ее не надо чтить кощунственным обрядом!
Но дух божественный подчас в предметах скрыт;
Заслоны плотных век – перед незримым глазом,
А в глыбе каменной упрятан чистый разум.
Причаститься к сокровенному смыслу, а быть может, преднамеренному умыслу этого неумолчного бытийного круговорота, в котором смерть и воскрешение чередуются как залог надежды, Нерваль хотел бы через сновидчество. В вихрении грез, по его предположениям, вещает о себе впрямую, без вмешательства рассудка, сама природа, ее судьбоносные божества-зиждители. Вникнув в эту заповедную правду, душа, омраченная жизненными утратами, не раз смущенная жуткими предчувствиями и догадками о своей потерянности во вселенском хаосе, могла бы обрести согласие с собственным прошлым, настоящим и будущим, примиренно вписаться в распорядок и ход вещей. Жажда допытаться обетованной истины своих земных дорог – а ведь такая истина рано или поздно, осмысленно или неосознанно манит каждого как утешающее оправдание пережитого – и составляет притягательность «Химер», делая их доступными и для тех, кто не искушен в мистико-мифологических намеках, образующих подспудный пласт нервалевской мысли.