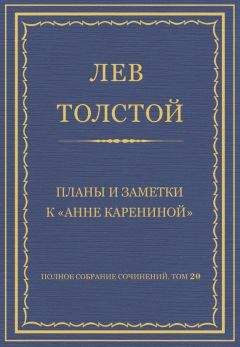Василий Розанов - О писательстве и писателях. Собрание сочинений [4]
Толстой не учился астрономии, «когда я учился»; «не читал Моммзена, когда я читал»; да ведь это визитная карточка с рекомендацией значительной особы, имея которую в кармане я смелее вхожу во всякий кабинет. Нужно заметить, что Фарадэй, сделавший самые удивительные (и тонкие) открытия в физике за этот век, не кончил даже гимназии или колледжа; не говоря о Платоне, который слушал только «мужика Сократа», и его диалогов до сих пор не умеют расщелкать искуснейшие из профессоров. Самому Гилярову — как будто судьба захотела подсмеяться над умным — привелось написать несколько (истинно замечательных) страниц по русской грамматике и набросать начало замечательного (говорят) трактата по политической экономии: как раздражен бы он был, как мучительно бы загорелся и бессильно опустил руки, если б ранее, чем читать эти специальные и живые страницы, читатель потребовал у него диплом филологического факультета и факультета юридического, на которых он не был. И между тем эту острую булавку непонимания он воткнул в голову Толстого. Толстой «игнорант»; но он умный и, следовательно, скромный[29] человек, и во всякой науке, говоря, будет говорить о той стороне предмета и в тех специальных ее частях, которые ему совершенно открыты и он стал на них неколеблющеюся пятой. Ведь если так судить, как его, — то смертным нельзя было бы раскрыть рот, ни просто даже беседовать между собою: ибо первый профессор астрономии не знает все-таки истории нравственных доктрин, и на попытку сказать, что его «обманули», что он «протестует», ему можно бы заткнуть рот тем, что он не изучал Гоббса, ни Мандевиля. Тогда нельзя ни о чем общем говорить; но разум дан человеку, чтобы понимать то тонкое разграничение, где в специальном начинается действительно специальное и где остается общее. Если б Толстой поправил Штрауса, что такой-то «codex sinaicus»[30] он неправильно отнес к VI веку, когда по данным палеографии он относится к первой четверти VII, мы могли бы рассмеяться. Но когда он говорит: «не противься злому»; или в одном случае: «должна рождать каждая честная женщина», или: «никакая и никогда», то он может говорить вздор, но нельзя ему возразить, что он не занимался филологической экзегетикой. Он говорит о практическом и из огромного практического опыта: нужно ловить или угадывать мотивы его речи и бороться с этими мотивами; не с «Толстым недостаточно образованным», а с Толстым-проповедником; «правдою» и против «правды» же. Очень печально, что в последнем сочинении «Об искусстве» Толстой как бы поддался на эти обвинения и привел умопомрачительное количество ссылок; «дал свидетельство знакомства с литературою предмета»; для понимающих его речь всегда и о всяком предмете интересна, с простою ссылкою, что это — речь умного и, следовательно, скромного, не заносящегося в незнакомые сферы, человека.
Мы упомянули о мотивах. Высоко печальны все-таки для православного и русского уклонения его последних лет; но тут жестокость негодования нашего должна притупиться о незнание именно всей полноты его мотивов. Левин (в «Ан. Карениной») женится — и как тревожна его исповедь; какой диалог (по поучительности) между священником и философом; как обаятельно лицо священника и сколько глубины в его простом недоумении-вопросе кающемуся:
— «Без веры в Бога, как же вы будете воспитывать детей»?
В последующих главах романа приведены отрывки из чина венчания; Долли и Левин — слушают и умиляются[31]. У Толстого была кроткая полоса в отношениях к церкви; он брел — некоторое время, и очевидно издавна (см. его «Юность» и там тоже радостное исповедание кн. Неклюдова), до очень поздних лет — как безмолвная овца в церковном научении; но что-то случилось, чего мы не знаем: ведь мы не знаем начатых и не конченных его работ, не слушали его бесед с людьми, не сливались с его зорким и пытливым глазом, когда он наблюдал то и это. Едва ли, однако, можно сомневаться, что у этого человека, у коего все идет из опыта и возвращается к жизни, и мотивом его церковных блужданий и (с нашей точки зрения) заблуждений служило что-нибудь практически-жизненное. Он мог не увидеть труда церкви там, где ожидал бы его видеть, жаждал видеть; он мог до излишества страстно скорбеть о том, о чем скорбят и тысячи православнейших людей: что, погрузясь в истончение богословских доктрин, церковь не проливает учения и, так сказать, жезла действия в скорбь и грязь, где копошится человечество. Излишество «не от мира сего», отчуждение от жизни, неслиянности с жизнью, столь очевидная и о которой скорбят преданнейшие церкви люди, — вот что, не уравновесившись в его душе тысячей соображений, которые действуют в прочих людях, могло вызвать его печальные и поспешные разочарования. Он впал в бедные и скудные опыты новых построений; нельзя не отметить, что тогда как в «Войне и мире», в «Анне Карениной», в «Севастопольских рассказах» он — может быть незаметно для себя — являлся религиознейшим писателем, заставив всех самым способом изображения почувствовать в жизни что-то трансцендентнонеясное, высокое, могущественное и праведное, — в это же время его катехизические опыты последних лет, это сгущенное богословие, бедны собственно религиозным элементом, сухо рациональны, этичны и иногда даже просто диетичны, т. е. сводят религию к правилам опрятного и жалостливого поведения. Где же тут Бог — как в битвах при Бородине? Судьба — как в неравенствах доль Натащи и Сони («Война и мир»)? Вмешательство иного мира в наши действия — как сны-предчувствия Вронского и Анны, или Немезида, которая тяготеет над Карениной? И в самом авторе — где преклонение перед неисповедимым? Все сужено: и вместо мира, таинственного и пугающего, мира огромного — мы вступаем в келью-кабинет крайне понятного устройства, где нам показывают узоры новых умственных комбинаций, опять крайне понятных, т. е. существенно не религиозных.
Но мы критикуем, когда хотели бы только очерчивать.
Повторяем, мы всех мотивов Толстого не знаем; но всякая попытка наша сухо-ригористически отнестись к последней публицистической его деятельности разбивается о соображение, что к исторической России, и даже к России православной и «правительствующей», автор «Войны и мира» пережил такую важнейшую, детски чистую и упорную (в 60-е годы) привязанность, до зарождения какой в себе миллионы нас не доросли. Он любил ее серою любовью солдата; «казака» на Кавказе; обыкновенного русского крепостного мужика. Ведь от мужика Дрона до двух братьев, офицера и прапорщика, которые спрашивают друг у друга о «родительских» деньгах перед тем как назавтра умереть за отечество (см. конец «Севастопольских рассказов») — все это понятно Толстому, т. е. все это прошло страданием и любовью через его сердце.
Но мы отвлеклись к ненужной нам теме. При чтении романов Толетого, если следить за фигурами и жизненною судьбой героев как за иллюстрацией к тут же присутствующей и не напечатанной его мысли, его «философии» или, точнее, «философствования», то поразишься чрезвычайною множественностью пунктов в бытии человеческом, на которые устремлено его внимание. Элен Безухова хочет перейти в католичество (кажется, даже перешла) — и тут краткий ее диалог с «обращающим» священником. Известно, что о католичестве Толстой ничего не писал и как бы не интересовался этою «старой» темой: но он ею интересовался и в мимолетном штрихе дал твердый, отчеканенный ответ на вечную тему. Он не писал о славянофильстве, но он написал, как Кознышев, ища грибы, так и не объяснился с «Варенькой»; славянофильство взято в мясе, с костями, — и хотя чуть-чуть, но все же показано, что тут много из папье-маше и подкладной ваты. Если сплести тысячи таких штрихов и понять, что за каждым из них — море наблюдения и мысли; что штрих потому и приведен, что Толстой когда-то стоял и думал над целой темой и, разрешив ее в уме своем, дал этот скульптурный штрих: то мы и придем к заключению, что интерес (для читателя) и авторитет Толстого основывается на том, что среди всех теперь живущих или высказавшихся людей он видит наибольшее число предметов и с наибольшего числа точек зрения.
Это и образует фигуру «мудреца» «своего времени»: титул, который безотчетно у всех установился за Толстым, и по праву принадлежит ему. Отсюда и это лицо, которым последние дни множество из нас любовалось на окнах художественных магазинов и в иллюстрированных изданиях; его надо «заслужить», его можно только «выработать». Вообще, кто любит человека, не может не любить лица человеческого; «лицо» у себя под старость мы «выслуживаем», как солдаты — «георгия». В лице — вся правда жизни; замечательно, что нельзя «сделать» у себя лицо, и если вы очень будете усиливаться перед зеркалом, «простодушное человечество» все-таки определит вас «подлецом». Лицо есть правда жизненного труда именно в скрытой, а не явной его части: это как бы навигаторская карта, но по которой уже совершилось мореплавание, а не предстоит. Сумма мотивов, замыслов; негодного осуществленного, но и брошенного в корзину. У Толстого — истинно-прекрасное лицо, мудрое, возвышенное; и по нему русское общество может гадать и довериться, что он знал заблуждения, но не — порочное, так сказать, в мотиве своем, в замысле. Это лицо чистого и благожелательного человека, и… «да будет благословенно имя Господне» за все и о всем, что он совершил.