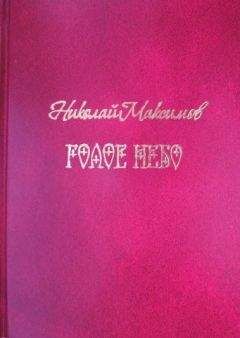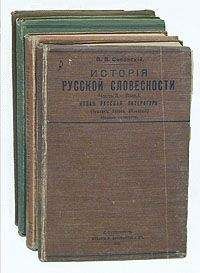Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
«Постоянство веселья и грязи» — это стихотворение об уходящем времени, о бесконечных «стройных рядах» людей, бредущих к своим могилам, о вселенской неизменности беспечного веселья и соседствующих с ним самых черных сторон жизни, олицетворением которых служит дворник-цербер. Это стихотворение было написано в стол 14 октября 1933 года, то есть вскоре после «досрочного выполнения» первой пятилетки, в период сталинских «головокружений от успехов». Но едва зашатались устои репрессивного режима, как стихотворение вытащили на свет и стали читать, петь, горланить на улицах… Так выстраивается своеобразная хронология литературной судьбы Хармса в России: писателя вынудили замолчать после первых же публикаций (двух стихотворений, напечатанных в 1926–1927 годах), затем надолго предали забвению, столь удобному для критиков, и, наконец, позволили вернуться в качестве детского писателя, каковым он, по сути, никогда не был, а позднее, в 70-е годы — в качестве фантазера, для которого находилось чуть-чуть места в рубрике «Юмор» на шестнадцатой странице «Литературной газеты».
Но справедливость опередила официальное признание, и в начале 80-х Хармс стал одним из самых читаемых авторов самиздата. Причем его книги воспринимали не в исторической ретроспективе, а точно так же, как, скажем, «Ожог» (1980) Аксенова или «Москву — Петушки» (1973) В. В. Ерофеева (ограничимся этими двумя излюбленными авторами сам- и тамиздата): он был действительно принят как современник. Его короткие рассказы читали и знали (зачастую наизусть!) одинаково хорошо как в среде интеллигенции, так и среди представителей так называемой культуры «андерграунда». К этому времени — позволю себе обратиться к личным воспоминаниям — относятся мои переписывания неизданных произведений писателя, хранившихся в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Могу сказать, что предмет моих исследований сам по себе стал визитной карточкой, пропуском в самые разные круги города, например в «Клуб—81» (дата создания), где регулярно устраивались литературные вечера (с такими поэтами, как В. Б. Кривулин, Е. А. Шварц, А. Т. Драгомощенко), семинары по литературе и переводу (по У. Б. Йитсу, например), театральные премьеры (вроде дадаистской постановки «Анны Карениной»); или в «Рок-Клуб» на улице Рубинштейна, где выступали «Аквариум», «Кино», «Странные игры», «ДДТ» и другие менее известные группы. К этому списку можно добавить содружество «Митьки» (Д. В. Шагин, В. Н. Шинкарев, А.О. и О. А. Флоренские) или другие группы художников-нонконформистов, часть которых вскоре объединилась в рамках альтернативной Академии изящных искусств на Пушкинской улице, 10 (Т. П. Новиков, С. А. Бугаев-Африка, О. Е. Котельников и др.).
В контексте столь небывалого увлечения Хармсом появление на выставке в Юзерше книг писателя с иллюстрациями Карасика, С. В. Жицкого и Якунина было вполне понятно. Но это была не столько дань моде, сколько стремление возродить традицию, из которой вышел Хармс, — традицию авангарда, с его высокой культурой книжной иллюстрации. Знаменательно в этой связи, что, с одной стороны, творчество Хармса было неотъемлемой частью культурного обновления предперестроечной поры (сыгравшего немалую роль в том, что перестройка стала исторической необходимостью); с другой стороны, само обновление должно было пройти через возврат к традиции, которая в сложившихся условиях оказалась грубо прерванной авторитарной властью. Феномен популярности Хармса объясняется причинами социального, философского и эстетического порядка.
Самыми очевидными из них являются, видимо, причины социального порядка. В коротких текстах, наиболее известные из которых объединены под характерным названием «Случаи» (в свое время они были проиллюстрированы Карасиком), Хармс изображает реальность, фактически мало изменившуюся к 1970–1980-м годам. Реальность эта ужасает своей бестолковостью, царящими в ней грязью, бедностью, пьянством, очередями, хамством толпы, грубостью отношений между людьми. Картина такой действительности пугает беспорядочным нагромождением множества частностей, столь же абсурдных в своих связях друг с другом, как и в своей внутренней сущности. Взятая в отдельности, каждая из этих частностей могла бы остаться незамеченной, но, собранные вместе, они вдруг предстают нелепым маскарадом, где то, что поначалу смешит, оборачивается вдруг чем-то невыносимым. К тому же эффект этот удваивался тем фактом, что прошло уже более четверти века с момента, когда Н. С. Хрущев, преданный идеям исторического материализма, пообещал счастье в самом ближайшем будущем, а жизнь практически так и не изменилась к лучшему.
По сути, ни одно явление повседневности, описанное Хармсом, не претерпело сколько-нибудь значительных изменений в последующие десятилетия. Ограничимся одним, типичным в этом отношении примером — «квартирным вопросом»: ситуации тяжелые и странные, комические и драматические, порожденные скученностью коммунальных квартир, Хармс описывает в целом ряде произведений. Вспомним хотя бы героя «Победы Мышина» (1940), растянувшегося на полу в коридоре в окружении жильцов коммуналки, которые тщетно пытаются заставить его встать, угрожая даже поджечь, на что он отвечает: «Мешал и буду мешать». Эту странную ситуацию не в состоянии разрешить и милиционер с весьма ограниченными умственными способностями, прибывший вскоре на место происшествия в сопровождении, как и положено, дворника «с грязными руками»: Мышин как ни в чем не бывало продолжает лежать в коридоре. Ручаемся, что и в начале 80-х он все еще оставался на прежнем месте… Во всяком случае, тех, кто годами стоял в очереди на право получения нескольких дополнительных метров жилплощади (именно так обстояли дела в эпоху, когда заново открывался Хармс), такая сценка не могла оставить равнодушными. Выражение: «Это Хармс» — для обозначения абсурдной ситуации вошло тогда в язык не случайно.
Кульминацией описаний царящей вокруг жестокости является, без сомнения, тема арестов — лейтмотив творчества писателя, начиная с «Елизаветы Вам» (1927) и вплоть до «Помехи» (1940) — одного из последних рассказов, написанных незадолго до собственного ареста. В этом рассказе (так прекрасно проиллюстрированном Карасиком) человек в черном пальто в окружении двух военных и неизменного дворника нарушает интимную близость мужчины и женщины. После хрущевской оттепели последствия от встречи с «людьми в черном» приняли, конечно, менее трагический оборот; тем не менее вмешательство сил порядка в обыденную жизнь людей до недавнего времени было в СССР реальностью.
Можно привести в качестве примеров много других тем, которые, вопреки дистанции времени, приближают Хармса к современному читателю. Было бы, однако, упрощением видеть в этом единственное объяснение успеха его произведений после того, как они были заново открыты. В этой связи отметим, что Хармс не воспринимает действительность исключительно в контексте порожденных ею репрессий. Его видение гораздо шире: человек слишком мал и слаб, чтобы постичь реальность во всей ее полноте, он слишком слаб даже для того, чтобы совладать со своими собственными желаниями, он обречен на одиночество и беспомощную неподвижность перед лицом великого «Всё», напоминающего ему кучу обломков, которые он не в силах собрать воедино.
Таким образом, можно утверждать, что творчество Хармса обладает универсальным значением, и успех его не сводится к полноте представленного в нем материала для социологических исследований. Возвращаясь к стихотворению, процитированному в начале статьи, можно смело сказать, что фигура дворника-стукача (центрального персонажа в жизни двора как в Советском Союзе, так и при старом строе) поднята до величины универсальной и постоянной. Достигается это путем расширения от строфы к строфе плана изображения — взгляд как бы отдаляется, раздвигая границы пространства и времени, пока не упирается в вечность («Движенье сделалось тягучим, / и время стало, как песок»). Последние шесть строк во всех строфах почти идентичны, однако, благодаря отдалению фона, описанная в них фигура дворника-цербера «с грязными руками» (как и мотив беспечного веселья) вырастает к третьей строфе до вселенского масштаба. Этот образ напоминает о неизбежном крахе официальной идеологии, которая, как и вообще всякая идеология, основывается не на философских посылках (как, например, у Хармса или ранее у Малевича), — это «чистая утопия», создаваемая «грязными руками» власти, наподобие той, что уже в 1918 году блестяще изобразил Замятин в памфлете «Великий ассенизатор». И хотя с первого взгляда создается впечатление, что ситуации, описанные в рассказах Хармса, принадлежат прошлому, без сомнения, именно их универсальное значение в сочетании с бунтарским (хотя и аполитичным) характером не могло не импонировать молодежи и обеспечило писателю подлинную популярность не только в предперестроечную эпоху, но и позднее, вплоть до наших дней.